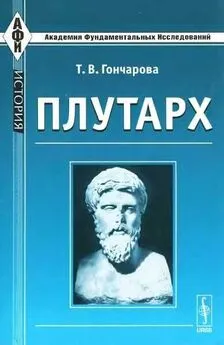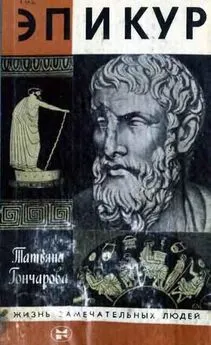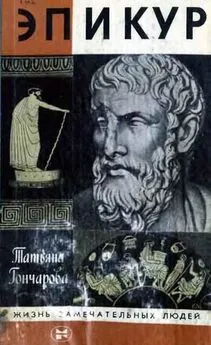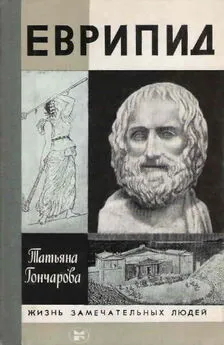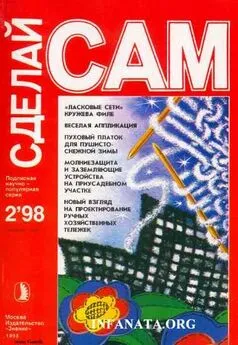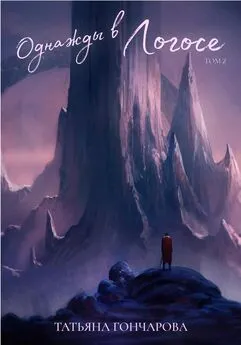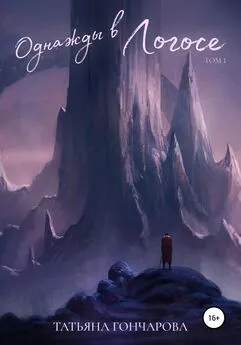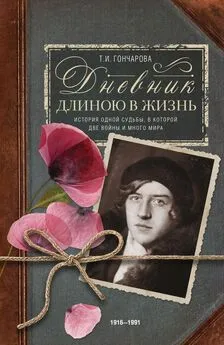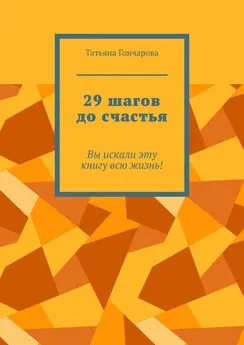Татьяна Гончарова - Плутарх
- Название:Плутарх
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КомКнига
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-484-01193-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Гончарова - Плутарх краткое содержание
Книга будет интересна не только философам и историкам, но и просто любителям повествований о древности.
Плутарх - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Для Плутарха, как и для других греческих мыслителей, чужие религии были всего лишь суевериями «диких народов, покоренных победоносным оружием». Он словно бы не замечал (по крайней мере, в своих сочинениях он избегает касаться этой темы), как сжимается варварское кольцо вокруг империи, как только и ждут своего часа неведомые полчища, которым «нужна земля, что могла бы прокормить такое множество людей, и города, где они могли бы жить». И чем больше ветшал грекоримский мир, тем чаще поднимались против него враждебные племена на востоке и на западе, и пощады от них ждать не приходилось. Вождь восставших батавов Юлий Цивилис, как писал об этом Тацит, «выступая против римлян, дал обет не стричь волосы, пока не добьется победы», и «отдал нескольких пленных своему маленькому сыну, чтобы те служили мишенью для его упражнений в стрельбе из лука и метании дротика». Державшаяся многие столетия в узде, немерянная и не считанная варварская ойкумена уже словно чуяла приближение своего часа.
Старый жрец Аполлона, рассуждавший со своими друзьями о том, что Луну, возможно, населяют те самые демоны, которыми кишит околоземное пространство (о чем он писал в трактате «Лик месяца»), не хотел об этом знать — о батавах, Цивилисе, о подступавших к восточным границам парфянах. Не в его силах было этому хоть чем-то воспрепятствовать, единственное, что он мог, это только одно — слиться всем сердцем, всем своим существом с той таинственной силой, которая исходила от дельфийской земли, и остаться с ней навеки — невысокий старик с жреческим венком на седых поредевших кудрях, прижавшийся худой спиной к нагретой за долгий летний день колонне храма…
«Разве для доброго человека не всякий день есть праздник? И еще какой великий, если только мы живем разумно! Ведь мироздание — это храм, преисполненный святости и божественности, и в него-то вступает через рождение человек, дабы созерцать не рукотворные и неподвижные кумиры, но явленные божественным Умом чувственные подобия умопостигаемого, как говорит Платон, наделенные жизнью и движением, — солнце, луну, звезды, реки, вечно изливающие все новую воду, и землю, питающую растения и животных», — пишет Плутарх в трактате «О благорасположении духа». До конца своих дней он сохранял убеждение в том, что счастье и покой заключены прежде всего в душе человека и что отношение к жизни, понимание ее смысла и целей определяют в конечном счете и самую эту жизнь.
В пору «благозакония», когда жизнь общества зиждется на твердых писанных и не писанных правилах, соответствующих, как считали старинные поэты и философы, Мировой справедливости, когда еще не стерты грани между добром и злом, правдой и ложью, людей с прочными внутренними устоями бывает значительно больше. Когда же исчезают страх перед богами и стыд перед людьми, а самым лучшим считается самое выгодное, сохранять ясность духа и ума становится все труднее. И хотя Плутарх жил в такие времена, когда, казалось, не осталось ни одного установления, не превратившегося в свою противоположность, он никогда не усомнился в том, что только следование законам нравственности и справедливости является основой подлинно человеческой жизни. Более того, он был убежден, что сохранять и даже воспитывать в себе добродетель можно при любых обстоятельствах, иначе зачем бы он писал свои трактаты по философии и этике?
«Я не думаю, клянусь Зевсом, о том, чтобы потешить и развлечь читателей пестротой своих писаний, но, подобно фиванцу Исмению, который показывал ученикам и хороших, и никуда не годных флейтистов, приговаривая: „Вот как надо играть“ или: „Вот как не надо играть“… точно так же я убежден, что мы внимательнее станем всматриваться в жизнь лучших людей и охотнее им подражать, если узнаем, как жили те, кого порицают и хулят». Так начинает Плутарх жизнеописания Деметрия Полиоркета, сына Антигона Одноглазого, одного из наследников-диадохов Александра Македонского, и римского императора Антония, олицетворявших в его глазах ту крайнюю степень нравственного падения, до которой доводит опаснейший из девизов — «все позволено». «Оба они были одинаково сластолюбивы, оба пьяницы, оба воинственны, расточительны, привержены роскоши, разнузданы и буйны» — и оба оказались в конце своего сумбурного пути никому не нужными и всеми презираемыми.
Блистательный Полиоркет, и вправду походивший на актера в своем алом, с золотой каймой одеянии и расшитых золотом пурпурных башмаках, появляется в заключительном акте истории независимой Эллады и, восстав против своих же македонян, обещает вернуть грекам свободу, которую им было никогда не вернуть. Его жизнь, не воспетая поэтами, но рассыпанная по множеству анекдотов второго разбора, была чередой блестящих успехов и жесточайших поражений в той войне, что развязалась между преемниками Александра. Ожесточенные битвы на азийских равнинах, морские походы, освобождение Афин от македонских ставленников и оргии в Парфеноне, храме Паллады, которую «взысканный удачей» герой называл своей старшей сестрой.
Самомнение Деметрия, по натуре, впрочем, не злобного, не знало пределов, он и вправду казался себе равным богам. Сделавшись на какое-то время царем Македонии, он приказал изготовить себе «плащ — редкостное произведение ткаческого искусства, с картиной вселенной и подобием небесных явлений и тел». Никто из последующих правителей не дерзнул накинуть на плечи плащ с изображением вечного и бесконечного Космоса. И в то же время единственным настоящим удовольствием Морского царя (как стали называть Полиоркета после того как он утратил все владения на суше и у него остался только флот) было мчаться, стоя на самом носу корабля, по разбушевавшимся волнам, подставив соленому ветру озаренное беспечной улыбкой лицо. Громкая слава Освободителя Греции была недолговечной, и оказавшись, в конце концов, в почетном плену у своего зятя Селевка в Сирии, играя в кости и пьянствуя, Деметрий умер на пятьдесят четвертом году.
Какая же «цель у войн, которые ведут, не останавливаясь перед опасностями, негодные цари, безнравственные и безрассудные?» — вопрошает Плутарх, стремясь понять, что движет такого рода людьми, и даже как будто жалея их: «Ведь дело не только в том, что вместо красоты и добра они гонятся за одной лишь роскошью и наслаждениями, но и в том, что даже наслаждаться и роскошествовать по-настоящему они не умеют». Но если у Деметрия, который, «пока обстоятельства ему благоприятствовали, неизменно стремился к освобождению Греции» (что было для Плутарха самым главным), он все же находит какие-то проблески благородства, то в отношении Марка Антония, сражавшегося с будущим императором Августом за власть над Римом, он непримирим. Признавая присущее Антонию величие, он в то же время сожалеет о том, что это величие меркнет в сравнении с тем нагромождением ошибок, безумств и предательств, какое представляла собой, по его мнению, жизнь этого человека, не сумевшего стать господином собственных страстей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: