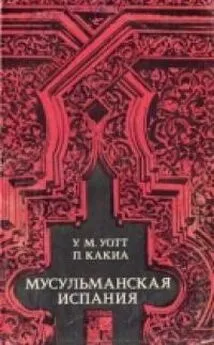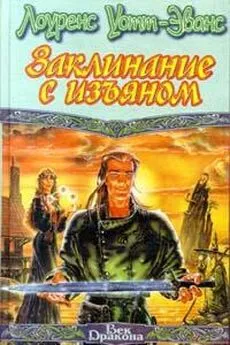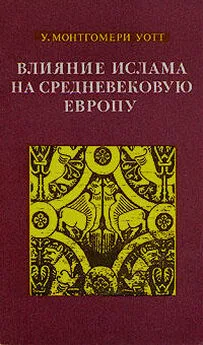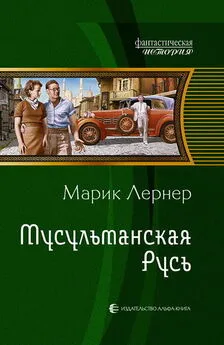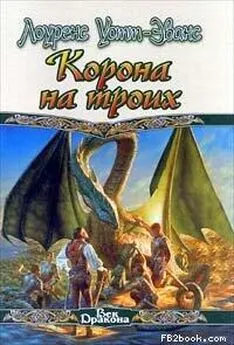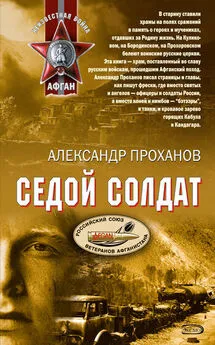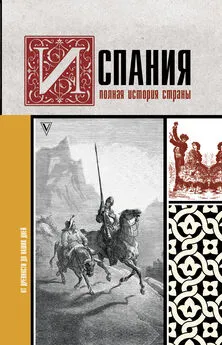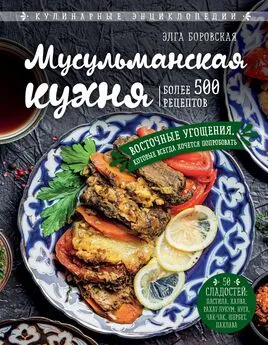Уильям Уотт - Мусульманская Испания
- Название:Мусульманская Испания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1976
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Уильям Уотт - Мусульманская Испания краткое содержание
Мусульманская Испания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Андалусская литература не только возникла как ответвление восточноарабской литературы, но и продолжала черпать в ней силы, видоизменяясь с помощью восточных «прививок». Из Багдада в ал-Андалус прибыл певец Зирйаб (ум. в 857 г.), ученик, а затем соперник Исхака Мосульского. Он привез с собой юных учеников и девочек-рабынь, чтобы основать андалусскую школу музыки и пения, а заодно преподать и изящные манеры багдадского общества. Известный ученый Абу Али ал-Кали (ум. в 965 г.) также приехал из Багдада; он был встречен в ал-Андалусе с большим почетом и продиктовал здесь свой обширный труд «Амали». Это были не связанные между собой опусы, главным образом на лексикографические или грамматические темы, но, как этого требовала арабская традиция, уснащенные поэтическими цитатами, часто подсказанными (пусть даже подсознательно) собственными литературными пристрастиями ал-Кали. Этим вставкам суждено было оказать непредсказуемое влияние на последующие поколения андалусской интеллигенции. Произведения величайших восточноарабских поэтов за удивительно короткий срок достигали ал-Андалуса, изучались и имитировались местными поэтами. Хотя древняя поэзия там тоже изучалась, именно новое стремление к риторическим украшательствам нашло наиболее яркое отражение в творчестве андалусских поэтов.
Неудивительно, что ал-Андалус не создал сразу выдающегося поэта. Есть немало поэтов конца VIII в. или IX в., чьи имена и образцы сочинений сохранились, но они достигали лишь среднего уровня. Дело в том, что большинство из них были омейядскими князьями, и вниманием, которое уделяли им историки литературы и составители антологий, они обязаны своему происхождению. И только в конце омейядского периода, когда Кордова стала центром учености и двор проявлял должную благосклонность к людям таланта и науки, в ал-Андалусе родились два писателя, чьи имена запомнили надолго.
Ибн Абд-Раббихи (860—940), поэт, чьи любовные стихи не лишены обаяния, известен прежде всего своим литературным тезаурусом «Несравненное ожерелье» («Ал-икд ал-фарид»), остававшимся в течение многих веков популярным как на востоке, так и на западе халифата. За образец он взял труд, созданный на востоке Ибн Кутайбой (ум. в 889 г.) под названием «Источники историй» («Уйуп ал-ахбар»), материал он также брал в основном из восточноарабской поэзии (из андалусских стихов он цитирует лишь свои собственные). Ибн Абд-Раббихи принадлежит также урджуза в 450 строк (урджуза представляет собой метрическую композицию типа классической оды, но менее строгую: полустишия рассматриваются в ней как самостоятельные строки и рифмуются по строфам), посвященная военным подвигам Абд ар-Рахмана III, она заслуживает упоминания уже потому, что нарративные поэмы редко встречаются в арабской поэзии любого периода.
Несомненно самым выдающимся андалусским поэтом того времени был Ибн Хани (ум. и 973 г.), но обвинение в ереси заставило его покинуть Испанию в возрасте двадцати семи лет и искать счастья у Фатимидов. Его называли «западным ал-Мутанабби», что, однако, более свидетельствует о его положении среди андалусцев и о пристрастии к высокопарной нравоучительности, чем о таланте. Для его стиля показательно следующее описание поенных кораблей Фатимида ал-Муизза:
Величием они горам подобны, но плывут
Те горы по морю — запретные высоты.
Зловещих хищных птиц они напоминают,
Не знающих добычи, кроме душ людских;
Кремни, что, искры непрестанно высекая,
Поддерживают битвы злой огонь.
Вздохнут во гневе — изрыгают пламя, словно
Пожар, что вечно полыхает в геенне адской.
Как будто молнии сверкают в их жарком зеве,
Железо извергает дыханье их окрест.
Они огонь на гладь морскую изливают —
И точно кровь на черных покрывалах рдеет.
К воде они приникли, словно фитили
Светильников, что масло впитывают жадно.
И кажется вода морская возле них светлей,
Подобно коже, пожелтевшей от шафрана.
Морские ветры направляют их поводья,
И пена волн пред ними стелется тропой... [43] Мухаммад ибн Хани ал-Андалус и, Диван Беqрут, 1952, стр. 53—54.
Это изобилие разрозненных образов, напоминающее несущийся с гор поток, характерно для стиля, распространенного во всех арабоязычных странах. С европейской точки зрения особенно странными здесь кажутся две черты. I. Фрагментарность: поэт не пытается построить целостный образ, вызвать единое настроение. Это явление в арабской поэзии наблюдается с самых ранних ее стадий, каждый замысел завершается в одной самостоятельной строчке. 2. Такое использование изобразительных средств приводит к тому, что они порой кажутся удивительно безжизненными и нейтральными, например огнедышащие корабли сравниваются со светильниками.
Луи Масиньону принадлежит поразительное наблюдение, что артистический темперамент в исламе стремится к «дереализации», к окаменелости объекта, так что метафоры следуют по нисходящей градации: человек сравнивается с животным, животное — с растением, растение — с самоцветом. По отношению к прошлому поэт не пытается возродить эмоции. Он воспринимает славу как средство информации, использует сны, тени, призраки, ибо идея мусульманского искусства такова: не следует идеализировать образы, надо идти за ними дальше, к Тому, кто приводит их в движение, как А волшебном фонаре, как в теневом театре, к Тому, кто живет вечно [44] L. Мassignоn, Les methodes de realisation artistique des peuples de l'lslam,— «Syria», 1921, стр. 19; [теперь перепечатано: L. Massignon, Opera minora, t. Ill, Beirut, 1963].
.
Как ни увлекателен подобный анализ, все-таки не всегда верно, что арабская метафора движется от живого к неживому. Представляется, что поэт скорее безразличен к тому, в какую сторону направлено это движение. Он довольствуется сопоставлением форм и красок, и единственное условие сравнения — сходство в каком-либо отношении. Например, отражение огня в воде сравнивается с пятном шафрана на человеческой коже без всяких сомнений по поводу разного круга ассоциаций, связанного с каждым образом.
Обе эти черты указывают на атомарность, заботу об отдельных деталях, глубоко заложенную в культурных традициях арабов, а быть может в самой их сущности, резко противоположную стремлению к единству деталей, выказываемому всеми европейскими литераторами со времен древней Греции.
В этом важном аспекте пока еще не было заметно никакой существенной разницы между поэтами ал-Андалуса и поэтами восточных земель. Вскоре ал-Андалусу предстояло превратиться в опору всей мусульманской духовной жизни к западу от Египта. Отношения с христианскими дворами к северу от Испании, с Византией, терпимость к еврейским ученым, которые стали в будущем переводчиками и посредниками, доступ к греческим и даже к некоторым латинским источникам — вот что дало ал-Андалусу возможность создать собственный культурный гибрид. Похоже даже, что смешанные браки с иберийцами и постоянный контакт с населением, большинство которого составляли христиане, в определенной степени окрашивали образ мыслей арабов, которые численно были в меньшинстве. Но это еще не отразилось на литературной продукции. Несколько сочинений, утерянных ныне, было, оказывается, посвящено андалусским литераторам, и это может служить свидетельством зарождавшейся «национальной» гордости. Но единственное, на что можно опереться, говорят о новых формах в поэзии, это мувашшах, создание которого приписывают либо Муххамаду ибн Муафе, либо Мухаммаду ибн Махмуду, оба жили в Кабре, близ Кордовы, в начале X в.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: