Вера Буданова - Готы в эпоху Великого переселения народов
- Название:Готы в эпоху Великого переселения народов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1990
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вера Буданова - Готы в эпоху Великого переселения народов краткое содержание
Для историков, археологов, этнографов, широкого круга читателей.
Готы в эпоху Великого переселения народов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Исследования Э.А. Томпсона отличает глубоко профессиональный подход к анализу письменных свидетельств. Он использует сообщения византийских церковных историков Сократа Схоластика, Созомена, Филосторгия, Феодорита Кирского, церковных деятелей Афанасия Александрийского, Иоанна Златоуста, епископов Авксентия Доростодьского и Максимина. Важными источниками он считает также «Гетику» Иордана, «Хронику» и «Церковную историю» Кассиодора, «Хронику» и «Историю готов» Исидора Севильского, а также «Жития готских мучеников».
Исследователь глубоко и детально разработал хронологию и историю внутренней и внешней борьбы, сопровождавшей утверждение христианства у готов. Он показал, что она сопровождалась гонениями и проходила в несколько этапов. По мнению Э. А. Томпсона, обращение готов в арианство завершилось между 382—395 гг., когда они переселились в Византийскую империю и расселились в Нижней Мёзии [108]. До этого среди готов не было даже конфессионального единства. Они состояли из авдиан, ариан, сторонников ортодоксального христианства [109]. Э.А. Томпсон показывает, что вестготское общество в IV в. уже не было социально однородным и к новой религии тянулись преимущественно «бедные люди», которые п подвергались за это преследованиям со стороны «лучших» (optimales) и «великих» (μεγισταυες) [110]. Он справедливо отмечает, что в основе преследований христиан в Готии лежали политические причины: гонения были организованы племенными вождями в качестве антиримской меры, чтобы остановить влияние империи на готов и поддержать старую племенную религию [111].
Однако Э.А. Томпсон не учитывал характера и особенностей уровня этнополитической консолидации готов к моменту распространения у них христианства. Готов, которые в IV в. размещались на территории бывшей римской провинции Дакия, он рассматривал в статике, вне тех интегративно-консолидационных процессов, которые особенно активизировались у них к моменту переселения в империю. В IV в., когда готы вплотную подошли к границам Византийской империи, ожи состояли из нескольких племенных групп и объединений, каждое из которых принимало новую религию по-своему. Отсюда отчасти и такая амальгама верований: авдианство, арианство, ортодоксальное христианство, племенная религия готов. Выясняя конкретный путь утверждения у готов христианства в форме арианства, Э.А. Томпсон не всегда принимал во внимание эволюцию взаимоотношений Византийской империи с готами, сложную конфессиональную ситуацию в IV в. в самой империи. Когда готы находились за римским лимесом, империя была заинтересована в принятии ими христианства. Ибо оно тогда выступало как проримская сила и вносило раскол среди готов, отвлекая их от борьбы с империей, в чем последняя и была заинтересована. Но, когда готы оказались на территории империи, она попыталась приостановить или, если это не удавалось, изолировать их от никейского православия и направить к принятию арианства.
В своих исследованиях Э.А. Томпсон не уходит от вопроса, который до сих пор вызывает споры в историографии [112]: почему готы, как, впрочем, и другие германские племена, приняли христианство в форме арианства? Он скептически высказывается относительно таких аргументов, как решающая роль авторитета Ульфилы или непонимание готами разницы между арианством и ортодоксальным христианством [113]. Более убедительным он считает предположение И. Цайлера о том, что иерархичность Троицы в арианском толковании была ближе к организационной структуре власти у германских племен [114]. Он справедливо обращает внимание на то, что арианство не представляло собой сильно централизованной организации, а состояло из ряда достаточно разъединенных, локальных и изолированных церквей. Организационно оно более, чем никейское православие, подходило готам, которые, как считает Э. А. Томпсон, желали сохранить внутри империи свою социальную одинаковость [115]. Однако в этом предположении не учитывается такой фактор, как отношение Византийской империи к процессу обращения готов в арианство. Империя не являлась пассивным зрителем христианизации готов. Известно, что в 380 г. был издан эдикт, согласно которому все подданные византийского императора должны были придерживаться никейского православия. Арианство стало считаться религией варваров. Официальное запрещение арианства в империи на фоне антиримских настроений готов, вероятно, косвенным образом закрепило их интерес к нему. Можно также предположить, что предпочтение, отдаваемое готами арианству, связано и с тем, что в кульминационные моменты их отношений с Византийской империей они имели дело с арианами в лице императоров или епископов.
В 60—70-е годы как в отечественных, так и в зарубежных археологических изысканиях продолжалось привлечение материала письменных источников для этнического определения населения Черняховской культуры, а также для установления принадлежности готам отдельных археологических памятников. В работах советских археологов Э.А. Рикмана, Э.А. Сымоновича, Г.Б. Федорова, а также в исследованиях румынских археологов Р. Вулпе, Б. Митри, К. Хоредта анализировались археологические материалы Северо-Западного Причерноморья в сопоставлении с сообщениями Иордана, Аммиана Марцеллина, Зосима и других древних авторов [116]. В одной из своих работ Э.А. Сымоновичем был еще раз поставлен вопрос о необходимости выявления степени соответствия данных письменных источников археологическому материалу применительно к пути движения готов и следам их присутствия в Северном Причерноморье [117]. Задача дальнейшего углубленного изучения письменных источников встала не только в связи с полемикой об интерпретации этнической принадлежности памятников Черняховской культуры, которая продолжалась в работах Ю.В. Кухаренко, В.В. Кропоткина, В.П. Петрова, М.Ю. Смишко [118], но и в связи с проблемой этногенеза славян, исследуемой Б.А. Рыбаковым, В.В. Седовым, П.Н. Третьяковым, В.Д. Бараном [119].
Исследования советских историков отличаются вниманием к свидетельствам письменных источников и их глубоким анализом. Так, А.М. Ременников, изучая историю племен Подунавья и Северного Причерноморья, в том числе готских племен, анализировал произведения различных жанров: исторические сочинения (латинские и греческие), хроники, речи, письма [120]. В работах советских византинистов исследуются социально-политические основы мировоззрения ранневизантийских историков, сочинения которых, как, например, Аммиана Марцеллина и Евнапия, содержат уникальную информацию о готах, анализируется творчество Зосима с точки зрения отношения этого историка к варварским
народам [121].
Здесь мы должны обратить внимание на один существенный момент. К 60—70-м годам в советской исторической науке готская проблема окончательно переходит в зону внимания археологов, которые привлекают письменные свидетельства о готах преимущественно как подсобно-иллюстративный материал. При этом в настоящее время ряд археологов связывают с готами не только Черняховскую, но и вельбарскую культуру. Памятники этой культуры прослеживаются в районах Северо-Восточной Польши и на территории УССР, преимущественно в Западной Волыни [122]. В западноевропейской историографии проблемный стержень изучения готского вопроса также смещается. Главными становятся сюжеты, связанные с «северным периодом» жизни готов, с выявлением их прародины. В этот период публикуются исследования, которые дают или по крайней мере намечают контуры ответов на вопросы: откуда, как и когда пришли готы в Северное Причерноморье и на Балканы, какие традиции они с собой принесли и насколько удалось им их сохранить до VI в., что представляли собой готы в культурно-историческом и этнографическом плане [123]. Продолжается также дальнейшее тщательное изучение в этот период на письменном и археологическом материале конкретных вопросов политической истории готов III—IV вв. [124]Однако появление, например, объемистого тома очерков А. Альфельди, посвященных исследованию кризиса Римской империи III в. и вторжения готов в числе других варваров в римские пределы [125], не повлекло за собой ни ощутимых качественных перемен в разработке готской проблемы, ни привлечения внимания к дискуссионным проблемам истории готов III—IV вв. В то же время работы таких исследователей, как Н. Вагнер, И. Свеннунг, Э.А. Томпсон, Р. Венскус показали, что рассматривать готскую проблему в рамках старой традиционной концепции представляется невозможным. Это особенно ярко продемонстрировала дискуссия, начавшаяся в литературе после выхода книги западногерманского археолога Рольфа Хахмана «Готы и Скандинавия» [126]. К концу 60-х годов созрели предпосылки и обострилась потребность в более широких синтетических работах, охватывающих не отдельные стороны, но готскую проблему в целом или по крайней мере комплекс ее стержневых аспектов. Именно работа Р. Хахмана явилась ярким проявлением этой тенденции. Она произвела впечатление настоящего взрыва. И объясняется это не только неожиданным ударом по некоторым конкретным положениям традиционной концепции истории готов, но главным образом предложенным Р. Хахманом новым подходом к ее решению. Автор не только обосновал назревшую необходимость изменить метод исследования, но и продемонстрировал его на примере анализа вопроса происхождения готов из Скандинавии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
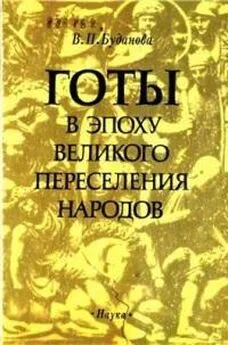

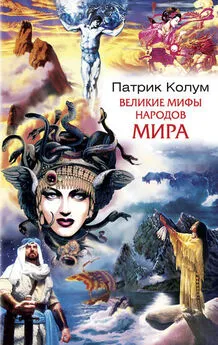
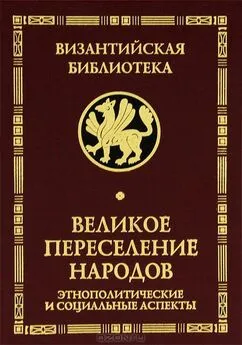
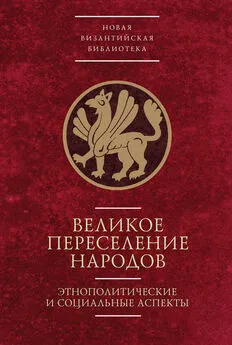
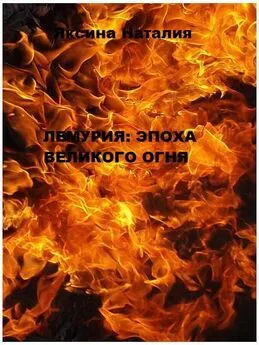
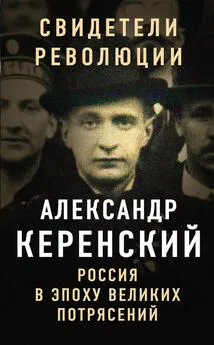
![Александр Керенский - Россия в эпоху великих потрясений [litres]](/books/1057836/aleksandr-kerenskij-rossiya-v-epohu-velikih-potryase.webp)
