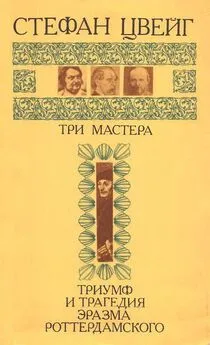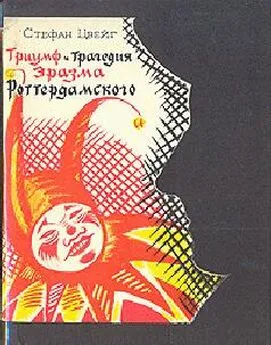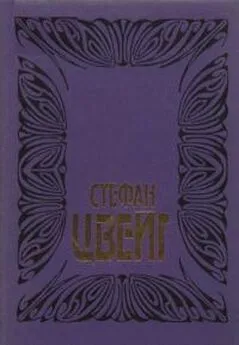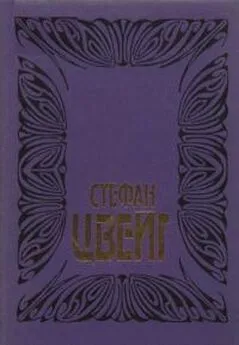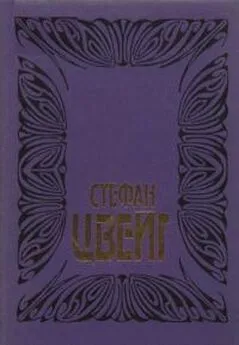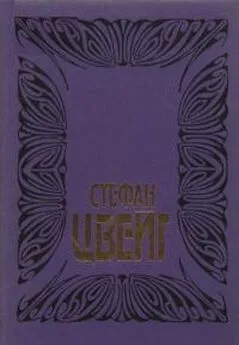Стефан Цвейг - Три мастера. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского
- Название:Три мастера. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Республика
- Год:1992
- Город:Москва
- ISBN:5-250-02058-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стефан Цвейг - Три мастера. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского краткое содержание
К числу изданий, вызывающих постоянный интерес читателей, относится и романизированная биография выдающегося нидерландского писателя, богослова и педагога эпохи Возрождения Эразма Роттердамского.
Три мастера. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Его космос — не мир, а только человек. Он глух для музыки, слеп к картинам, равнодушен к ландшафту: ценой неимоверного безразличия к природе, к искусству куплено его непостижимое, несравнимое знание человека. А всему только человеческому свойственна ущербность и неполнота. Его Бог живет только в душе, а не в вещах; у него нет драгоценного зерна пантеизма, сообщающего немецким и эллинским произведениям способность успокаивать и разрешать. У Достоевского действие разыгрывается в непроветренных комнатах, на грязных улицах, в дымных кабаках, наполненных тяжелым человеческим, слишком человеческим воздухом; нет у него порывистого, освежающего ветра и смены времен года. Попробуйте вспомнить: в его крупных произведениях — в «Преступлении и наказании», в «Идиоте», в «Братьях Карамазовых», в «Подростке» — в какое время года, в какой местности происходит действие? Летом, весной или осенью? Может быть, об этом где-нибудь и сказано. Но этого не чувствуешь. Не вдыхаешь, не осязаешь, не ощущаешь, не переживаешь этого. Они разыгрываются где-то во мраке сердца, временами озаряемом молнией познания, в безвоздушной области мозга, лишенной звезд и цветов, тишины и молчания. Дым большого города омрачает небо их души. Им недостает точки опоры для освобождения от человеческого; в них нет блаженных разрядов, самых ценных для человека, когда он отводит взор от себя и от своих страданий и обращает его на бесчувственный, бесстрастный мир. Это — тень в его книгах: его образы как бы сняты с серой стены нищеты и мрака; чуждые свободы и ясности, они вращаются не в реальном мире, а только в беспредельности чувства. Его сфера — душевный мир, а не природа, его мир — только человечество.
Но и человечество его, как бы изумительно правдив ни был каждый человек в отдельности, как бы безошибочен ни был его логический организм, в целом, в известном смысле, неестественно: какая-то призрачность присуща его образам, их шаги как бы вне пространства, точно шаги теней. Этим я не хочу сказать, что они неправдоподобны. Психология Достоевского безупречна, но его люди непластичны, ибо они исследованы и прочувствованы с возвышенной точки зрения: они сотканы только из души и лишены плоти. Героев Достоевского мы знаем исключительно как превращающееся и превращенное чувство; это существа из нервов и души, почти забываешь, что у них кровь течет по жилам, что у них есть тело. На двадцати тысячах страниц его сочинений нигде не сказано, как сидит кто-нибудь из его героев, как он ест, пьет: они только чувствуют, говорят и борются. Они не спят (иногда лишь грезят в ясновидении), не отдыхают, они пребывают в постоянной лихорадке, постоянно размышляют. Они никогда не прозябают, как растения, как звери, — всегда они в движении, всегда возбуждены, напряжены и всегда, всегда бодрствуют. Более чем бодрствуют: всегда они пребывают в превосходной степени своего бытия. Они все обладают душевной дальнозоркостью Достоевского, все они ясновидящие, телепаты, духовидцы, все — пифические люди и все пропитаны до последних глубин существа психологическим знанием. В обыденной, банальной жизни большинство людей — не нужно об этом забывать — находятся в конфликте друг с другом и с судьбой лишь потому, что они друг друга не понимают, что им свойствен лишь земной рассудок. Шекспир, другой великий психолог человечества, строит половину своих трагедий на этом врожденном непонимании, на этом фундаменте мрака, который лежит роковым камнем преткновения между человеком и человеком. Лир не доверяет своей дочери, ибо не подозревает о ее благородстве, о скрытом за стыдливостью величии ее любви; Отелло избирает себе в наперсники Яго, Цезарь любит Брута, своего убийцу, — все они во власти подлинной природы человеческого мира — заблуждения. У Шекспира, как и в действительной жизни, недоразумение, земное несовершенство становится производительной силой трагизма, источником всех конфликтов. Но герои Достоевского — сверхзнающие, они не ведают недоразумений. Каждый пророчески знает другого, они понимают друг друга беспредельно, до последних глубин, они высасывают слово из уст друг у друга раньше, чем оно произнесено, и мысль — из материнского лона ощущения. Они чуют, они предугадывают друг друга, они никогда не разочаровываются, никогда не удивляются, каждая душа таинственным чутьем схватывает сущность другой. У них чрезмерно развито неосознанное, подсознательное; все они пророки, все провидцы и духовидцы. Достоевский отяготил их своим собственным мистическим проникновением в бытие и познание. Для пояснения я приведу пример. Рогожин убивает Настасью Филипповну. С первой встречи с ним, в каждый час любви она знает, что он ее убьет; она убегает от него именно потому, что знает это, и возвращается потому, что стремится к своей судьбе. Она за несколько месяцев уже знает, какой нож пронзит ее грудь. И Рогожин знает это, и ему, так же как и Мышкину, знаком этот нож. У Мышкина задрожали губы, когда он однажды заметил, что Рогожин играет этим ножом. Также и при убийстве Федора Карамазова всем ведомо то, чего никто не может знать. Старец падает на колени, потому что чует преступление; даже насмешник Ракитин умеет отгадывать события по этим признакам. Алеша, прощаясь с отцом, целует его в плечо, — чувство подсказывает ему, что он его больше не увидит. Иван едет в Чермашню, чтобы не быть свидетелем преступления. Грязный Смердяков предсказывает ему это с улыбкой. Все, все, обремененные пророческим знанием, неестественным в своем великом многообразии, знают и день, и час, и место убийства. Все они пророки, все знающие наперед, все постигающие.
Здесь, в психологии, вновь познается двойственность формы всякой истины для художника. Хотя Достоевский знает человека глубже, чем кто-либо знал до него, все же Шекспир превосходит его, как знаток человечества. Он познал неоднородности бытия, обыденное и безразличное поставил рядом с грандиозным, тогда как Достоевский каждого единичного человека возносит в беспредельность. Шекспир познал мир во плоти, Достоевский — в духе. Его мир, быть может, совершеннейшая галлюцинация мира, глубокий и пророческий сон о душе, сон, превосходящий действительность: это реализм, который, выходя из своих пределов, подымается до фантастического. Достоевский — сверхреалист, переходящий все границы; он не изобразил действительность, он ее возвысил над собой.
Итак, изнутри, только из души исходит его художественное изображение мира; изнутри связанность этого мира и разрешенность — изнутри. Этот род искусства, самый глубокий, самый человечный, не имеет предков в литературе — ни в России, ни где-либо в мире. Это творчество связано братскими узами лишь с далеким прошлым. Его судороги и страдания иногда напоминают греческих трагиков — чрезмерностью мучений людей, извивающихся под ударами сверхчеловеческой судьбы; мистической, каменной, неизбывной душевной печалью иногда напоминает оно Микеланджело. Но как истинный брат протягивает ему руку сквозь века Рембрандт. Оба они приходят из жизни, полной труда, лишений и презрения, оторванные от всех земных благ, загнанные ревнивыми стражами богатства в глубочайшие глубины человеческого бытия. Оба они знают творческий смысл контраста, знают о вечном споре мрака и света, знают, что нет красоты более глубокой, чем святая красота души, преодолевшая скудость бытия. Как Достоевский создает святых из русских крестьян, игроков и преступников, так Рембрандт рисует свои библейские фигуры с найденных в портовых переулках моделей; для обоих в самых низменных формах жизни кроется какая-то таинственная, новая красота, оба они находят своего Христа среди отбросов общества. Оба знают о постоянной борьбе земных сил, о свете и тьме, с равной мощью господствующих в физическом и в духовном мире: и тут и там свет возникает из последнего мрака жизни. Если глубже всмотреться в картины Рембрандта и в книги Достоевского, в них откроется последняя тайна мировых и духовных форм: всечеловечность. И где душа сперва замечает лишь призрачную форму, тусклую действительность, там, заглядывая глубже, в радостном познании она созерцает сияющий свет — это священное сияние, которое мученическим венцом окружает последние явления бытия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: