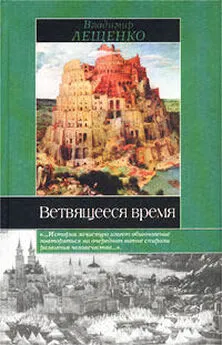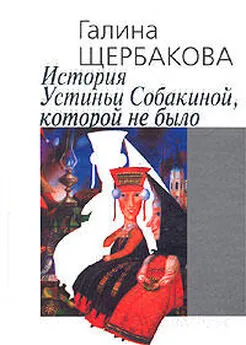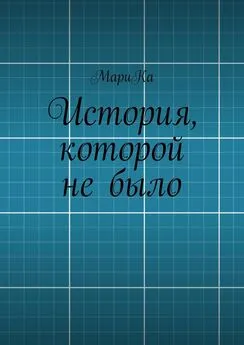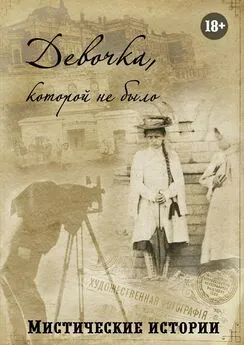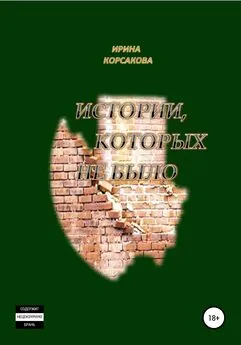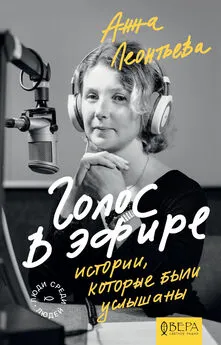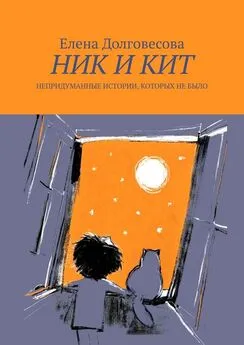Владимир Лещенко - Ветвящееся время. История, которой не было
- Название:Ветвящееся время. История, которой не было
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Лещенко - Ветвящееся время. История, которой не было краткое содержание
Как изменился бы ход всемирной истории, если бы не появились христианство и ислам?
Что было бы с Древним Римом, если бы Ганнибал одержал победу?
Как сложилась бы судьба Русского государства, если бы князь Владимир стал католиком?
Перед вами увлекательная книга – оригинальная попытка осмыслить мировую историю от Александра Македонского до Михаила Горбачева. Картины, нарисованные автором, при всей их фантастичности могли стать реальностью.
Ветвящееся время. История, которой не было - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Разоряется французский средний класс и мелкая буржуазия – оплот социальной стабильности и традиционный, как теперь принято говорить, электорат правых и центристов.
Положение неуклонно и неумолимо ухудшается, и неуклюжие и бездарные попытки властей изменить положение только усугубляет ситуацию.
И настает момент, когда все разнонаправленные векторы кризиса сходятся в одной точке, порождая взрыв.
И точка эта – события 1968 года.
Если шестьдесят восьмой год даже в условиях относительно стабильной голлистской Франции едва не опрокинул существовавший социальный строй, (де Голль даже рассматривал вероятность послать на охваченный беспорядками Париж стоявший в Баден-Бадене французский корпус), то можно себе представить, какие потрясения были бы суждены Франции в отсутствии генерала.
Быть может, дело бы закончилось самой настоящей социалистической революцией, и изумленная Европа увидела бы красные флаги над Лувром и Эйфелевой башней. Но при этом, у насаждения социализма во Франции нашлись бы и не менее (или немного менее) многочисленные противники, и чем все кончилось – даже отдаленно предположить просто невозможно.
Во всяком случае, европейская стабильность и «Атлантическая солидарность», на выстраивание которых США потратили столько сил и средств, были бы взорваны происходящим во Франции.
Теперь об очень плохом варианте.
В мае 1958 году, как и в нашей реальности, в Алжире вспыхивает мятеж местного белого населения, поддержанный армией.
В поддержку Комитета общественного спасения выступают многочисленные правые и ультраправые организации в метрополии, что сковывает и без того робкие попытки правительства прекратить мятеж.
Власти не решаются задействовать вооруженную силу на первом этапе, когда это было еще возможно – из опасения, что армия откажется выполнять приказ стрелять в своих товарищей, исходящий от ненавистных «парижских политиканов».
Тем временем, мятежники без боя берут под контроль Корсику и высаживаются в метрополии. Лозунгами военного переворота становится ликвидация осточертевшего всем «партийного режима», установление сильной власти, а так же – война за «Французский Алжир» до победного конца.
«Малой кровью» теперь уже обойтись невозможно, и единственный выход – призвать народ на защиту конституционного строя. Но Париж так и не решается на это.
Прежде всего, как об этом уже говорилось, из страха того, что в результате вспыхнет полномасштабная гражданская война, и в не меньшей степени – из боязни победы левых сил.
В определенном смысле повторяется ситуация лета 1917 года в России, когда вспыхнул корниловский мятеж. Только и Пфлимлен не Керенский, да и Морис Торез – не Ленин, так что исход событий совсем другой. Тем более, что парижских деятелей не подгоняет мысль (как подгоняла Керенского и «февралистов»), что в случае победы крайне правых, их просто перевешают как изменников.
Пользуясь бездействием властей, мятежные войска высаживаются на южном побережье Франции, занимают Марсель, Тулон и не встречая сопротивления, продвигаются к северу.
Левые силы, прежде всего ФКП, проводят массовые демонстрации в защиту республики, но результативных действий против мятежников организовать не удается.
В этих условиях правительство слагает с себя полномочия, перед политической смертью приняв декрет (возможно – уже под прицелом автоматов парашютистов) о безоговорочной передаче власти военной хунте.
Во главе ее, впрочем, мог бы оказаться и гражданский человек – тот же Жак Сустель, хотя скорее всего, то был бы генерал Салан – семидесятилетний крепкий старец (почти ровесник де Голля), участник всех войн, какие вела Франция с 1914 года, и по сути – человек прошлого века. Вместе с ним там же оказываются и генералы из алжирского клана – Массю, Жуо, Шалль, адмирал Орбине. (2,188)
Итак, правительство, состоящее из генералов и алжирских французов водворяется на Елисейских полях, под овации заметной части сограждан, уставших от бесконечной чехарды во власти, и удивленно-испуганные комментарии зарубежной прессы и телевидения (своим уже заткнули рот).
Эта, кажущаяся в современной Франции немыслимой альтернатива «гнилой демократии», на тот момент была более чем реальной.
За время существования Четвертой республики было раскрыто по меньшей мере два заговора, направленных на захват власти военными.
Первый – в 1947 – носивший кодовое название «Голубой план», в котором было замешано высшее руководство жандармерии и армии. Заговорщики намеревались установить военную диктатуру франкистского образца. Как ни странно, никаких суровых мер в отношении заговорщиков не последовало.
Второй – заговор «Большого О» 1956 года. План предусматривал вооруженное выступление в Алжире, отправку войск в метрополию «для наведения порядка» и установление осадного положения на всей территории Франции, с передачей всей полноты власти военно-полицейской директории.
Он был своевременно раскрыт, но участников только пожурили (а зачинщик – генерал Фор отделался…30 сутками административного ареста). Как написал по этому поводу Т.Джонсон «С 1952 по 1962 Франция чем-то походила на южноамериканскую страну, поскольку армия не считалась с правительствами, контролировала их действия, угрожала им, и свергала». (2,191)
Теперь же армия просто становится властью.
Первыми же декретами хунты запрещены и ФКП, и ФСП, а их лидеры и активисты отправлены обсуждать разногласия меж партиями за решетку.
Компанию им вскоре составили бы и правые либералы, возмущающиеся незаконным захватом власти и подавлением демократических свобод. Попасть в тюрьму или под интернирование могли бы многие видные французы – и писатель А. Камю, Андре Мальро и Франсуа Мориак – бывшие министры в правительстве де Голля, и члены ФКП – знаменитые актеры Ив Монтан и Симона Синьоре, поэт Луи Арагон и нобелевский лауреат Жан-Поль Сартр.
Впрочем, скоро запрещаются вообще все политические партии, как того требовали воинствующие антиреспубликанцы, закрываются десятки газет, вводиться жестокая цензура.
Все «неблагонадежные» – а критерии тут самые размытые – чиновники увольняются, на их место назначаются офицеры.
Одним словом Франции устанавливается военно-полицейский режим, аналогичный режиму «черных полковников» в Греции, или тому, что существовал в Испании и Португалии.
Или, если подбирать французские аналоги, очень похожий на тот, что установили во Франции в свое время Петен и Лаваль. И неудивительно, что возобновляются попытки реабилитации деятелей Виши, начатые еще в начале пятидесятых. Утверждение, что для Франции капитулянтство Петена было «почти так же необходимо» как сопротивление де Голля (25,271), перекочевывает со страниц реакционных газет в учебники.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: