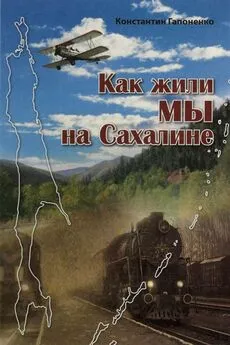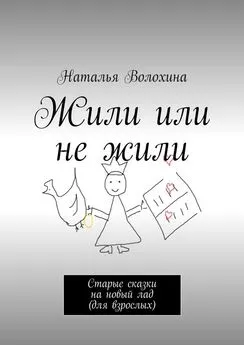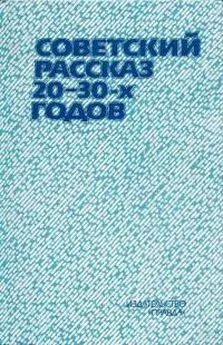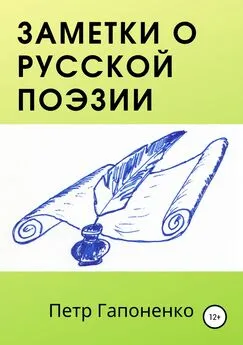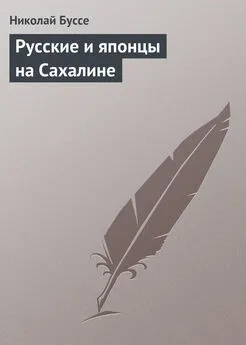Константин Гапоненко - Как жили мы на Сахалине
- Название:Как жили мы на Сахалине
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Лукоморье
- Год:2010
- Город:Южно-Сахалинск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Гапоненко - Как жили мы на Сахалине краткое содержание
Как жили мы на Сахалине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Отдельные солдаты и офицеры за мужество, проявленное при спасении людей, войскового и гражданского имущества, получили ордена и медали. Но кто удостоился наград, а кто — вечной памяти, мы не знаем. Такие сведения могут дать лишь военные архивы.
Теперь вернемся к цифре Наймушина. Откуда она взялась? Подполковник Смирнов оперирует округленными цифрами и употребляет слово «около», совершенно неприемлемое в статистике. Но даже если пойти ему на уступку и сложить данные им цифры, то не получится и двух тысяч — 1988 человек. Информация обтекаемого характера поступала из других населенных пунктов. Вот сообщение из Подгорного: «Проживало более 500 человек, в живых осталось 97, которые эвакуированы». Как считать погибших? Вычесть разницу? Но что обозначает «более 500»? Это и 501, и, допустим, 537. Вот данные из книги С. Антоненко «Трагедия Океанского», составленные уже знакомым нам Михаилом Александровичем Берниковым, директором рыбокомбината, на пароходе по пути во Владивосток: проживало в Океанском около трех тысяч населения, в живых осталось 390, в их числе рабочие из КНДР. В небольшом поселке Галкино не осталось ни души. Из пограничного отряда, расположенного рядом с Галкино, спасся один солдат-первогодок, которого вынуждены были отправить в дом умалишенных. Сумма только вышеназванных потерь превышает цифру, названную Наймушиным. А как определить число жертв в тех населенных пунктах, где вообще не велось никакого подсчета после катастрофы? А в самом городе, где люди грузились сразу на несколько пароходов? До счету ли было в условиях хаоса, деморализации, массовой эвакуации? Да никто ни перед кем и не ставил такой задачи — достоверно определить число погибших. Оговорка Найму- шина «по предварительным данным» должна была предполагать, что через какое-то время назовут точную цифру. Но ее не назвали да и назвать не могли. Власти не сочли нужным возвращаться к этому вопросу и строго засекретили все, что касалось северо-курильской трагедии.
После публикации 1 ноября 2002 года в «Советском Сахалине» моего очерка раздался звонок Н. Г. Смирнова, работавшего долгое время в Сахалинском обкоме КПСС. Он сообщил, что после перехода на работу в обком обнаружил сейф, часть которого была наполнена фотографиями. Их сделали в Северо-Курильском районе сразу после разрушений. Понимая бесценность этих снимков, он передал их в партийный архив. Куда они девались — неизвестно: нынешние работники архива ничего о них не знают.
Дом для пострадавших
Старшину Новикова достали из пролива военные. У него было ранено плечо, повреждена нога, имелась черепно-мозговая травма. В Холмском госпитале лечился он больше четырех месяцев. На прощание военврач, предостерегая от возможных последствий ноябрьской купели, посоветовал определиться в какой-нибудь «тихой» профессии — пчеловода или лесника. И Новиков, отслуживший срочно и сверхсрочно более 10 лет, стал лесником Пятиреченского лесничества. Человеку, можно сказать, повезло, другим пришлось много хуже, особенно тем, кто очутился в Приморье.
Согласно докладу полковника Наймушина, всего в Приморье было эвакуировано 26960 человек. Возможно, это были военнослужащие с семьями. Гражданского населения доставили на 16 пароходах в период с 12 по 21 ноября 7802 человека, в том числе 1358 рабочих из Северной Кореи, хотя по другим данным их значилось 808 человек. Эвакуированные оказались в положении тяжелейшем: у человека ни кола, пи двора, ни документов, ни денег, ни даже запасных кальсон в баню. Приморские власти делали все, что могли — размещали в школах, переселенческих поселках Второй Речки, обеспечивали питанием, постельными принадлежностями. Семья Мезис с большой группой курильчан месяц жила в клубе Уссурийского сахарного завода. Может, самым разумным в тех условиях было бы выписать пострадавшим документы, выдать деньги на проезд к материковскому дому и тем самым в значительной степени разрешить проблему. Но все курильчане были людьми вербованными, то есть обязанными отработать определенный срок в Сахалинской области. 1 декабря 1952 года принимается постановление Совета Министров СССР «О трудовом и бытовом устройстве населения, эвакуированного с островов Курильской гряды, и об оказании дополнительной помощи населению Камчатской области, пострадавшему при землетрясении». Пункт первый этого документа обязывал министерство рыбной промышленности и Сахалинский облисполком «направить всех трудоспособных эвакуированных для работы на предприятиях Сахалинской области, сохранить за ними непрерывный стаж работы». Каждому работнику выплачивали подъемные в размере месячного оклада или тарифной ставки и четверть оклада на каждого члена семьи. Зарплату начисляли с 5 ноября по день прибытия к новому месту работы. Разумеется, что никакой компенсации за утерянное имущество не предусматривалось.

И страдальцев снова погрузили на пароходы и по бурному зимнему морю повезли на Сахалин.
Бюро обкома партии принимает постановление: «Ориентировочно разместить по районам и городам следующее количество работников с семьями, прибывающих из Приморского края: Восточно-Сахалинский район — 50 семей, Александровский район — 220 семей, Широкопадский район — 90 семей, Томаринский район — 360 семей». Всего надлежало разместить 3585 семей.
Как ни странно, но вместо сахалинской дыры иные предпочли Северо-Курильск. Что их там ждало?
После массовой эвакуации по решению обкома партии была создана оперативная группа райкома и райисполкома в количестве 5 человек. Руководил ею первый секретарь райкома Иосиф Михайлович Орлов, избранный на августовской конференции 1952 года.
5 февраля 1953 года председателем исполкома Северо-Курильского райсовета избрали Ивана Александровича Беляева. В чрезвычайных условиях, мобилизуя небольшую часть оставшегося населения и опираясь на огромную помощь военных, курильчане восстановили работу почты, телеграфа, телефона, конторы Госбанка, развернули небольшую часть торговых точек. Удалось вывести на стоянку и ремонт уцелевшие катера и кунгасы, собрать некоторое поголовье скота, значительное количество материальных ценностей, в том числе 126 тонн муки.
Но все это и в сотой доле не удовлетворяло потребности людей, которые прибывали на восстановление разрушенного региона. Обстановку в какой-то мере обрисуют выдержки из выступления И. Орлова перед партхозактивом в марте 1953 года: «Совершенно неудовлетворительно работает рыболовпотребсоюз. До сих пор не закончена инвентаризация в торговой базе и базах рыбкоопа, из-за чего задерживается поступление товаров в магазины. На территории торгбазы до сих пор остаются разбросанные стихией товары, которые приходят в негодность и расхищаются. Снабжение населения хлебом, мукой, сахаром и другими продуктами остается неразрешенной проблемой. Столовая в порту восстанавливается уже больше месяца, там всего четыре стола и полное антисанитарное состояние. Рабочие вынуждены питаться кое-как.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: