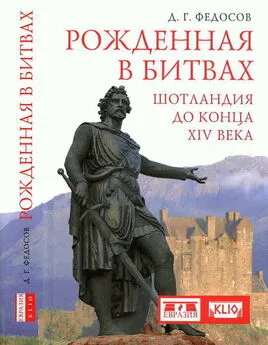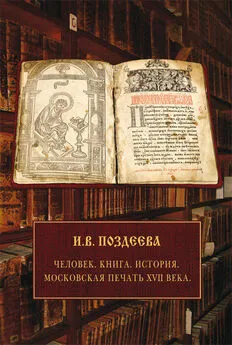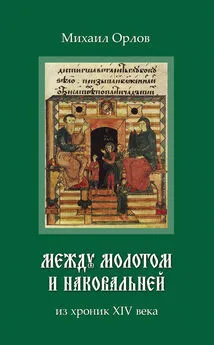Михаил Кром - Рождение государства. Московская Русь XV–XVI веков
- Название:Рождение государства. Московская Русь XV–XVI веков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0899-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Кром - Рождение государства. Московская Русь XV–XVI веков краткое содержание
Михаил Кром — доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, специалист по истории раннего Нового времени и исторической компаративистике, автор множества научных работ.
В оформлении обложки использован портрет Ивана IV (ок. 1600 г.), Национальный музей Копенгагена.
Рождение государства. Московская Русь XV–XVI веков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ошибочно и противопоставление происхождения европейских представительных учреждений, вызванных к жизни, по словам Ключевского, «политической борьбой», и московских соборов, созданных будто бы просто для удовлетворения «административных нужд». На самом деле описанная выше предыстория соборов как нельзя лучше иллюстрирует тот факт, что именно политические кризисы и противоборство разных социальных групп повсеместно служили питательной почвой для зарождения и развития совещательных и представительных учреждений. Напомню, что первое упоминание о некоем прообразе будущих соборов относится к периоду соперничества Дмитрия Шемяки и Василия Темного за великокняжеский престол в 1446 году, а «собор примирения» 1549 года был созван юным Иваном IV для преодоления последствий острого политического кризиса, разразившегося во время малолетства государя. Новый толчок развитию соборной практики был дан в эпоху Смуты начала XVII века.
Если уж сравнивать представительные учреждения в разных странах Европы, то ни в коем случае не стоит ограничиваться двумя-тремя общеизвестными примерами, вроде английского Парламента, французских Генеральных штатов или польского Сейма. Реальная картина была намного богаче и разнообразнее. На этом фоне московские соборы отнюдь не выглядят каким-то экзотическим явлением, обнаруживая уже на ранней стадии своего развития ряд характерных «фамильных» черт.
Нет ничего удивительного в том, что соборы в течение примерно полувека после своего появления ограничивались совещательной функцией: точно так же обстояло дело и с «новорожденными» парламентами, кортесами, штатами и т. д. в других странах (но только в более ранние столетия). Ведь все они появились на свет в результате расширения королевского совета (курии), подобно тому как московские соборы возникли благодаря расширению государевой Думы, заседания которой стали проводиться совместно с Освященным собором, а затем и с приглашенными на совещания дворянами, посадскими людьми и купцами. Состав и функции соборов расширялись (как это происходило и с парламентами) по мере изменения социально-политической обстановки.
Важно также правильно понимать природу представительства в изучаемую эпоху. Избирательная система формировалась медленно и, по нашим меркам, была весьма далека от идеала. Даже применительно к английскому Парламенту XVI века исследователи говорят не об «элекции» (конкурентных выборах), а о «селекции» — отборе подходящих кандидатов. И тем не менее депутаты Парламента считались полномочными представителями английской нации, всего королевства. Участники ранних московских соборов, хотя они не были избраны населением, а приглашены от имени царя или отобраны каким-то образом, говорили уверенно и не по шаблону, чувствуя за собой поддержку своей «братии», — именно такое впечатление производят речи торопецких или луцких помещиков на соборе 1566 года.
Уже самые первые московские соборы представляли собой государственные совещания. Они приобщали к вопросам внешней и внутренней политики сотни людей — вплоть до рядовых помещиков и купцов. Тем самым резко расширялась сфера публичной политики. Это уже не были совещания «сам-третей» у постели, за которые упрекал Василия III строптивый сын боярский Берсень Беклемишев [14] В сохранившемся отрывке следственного дела Ивана Никитича Берсеня Беклемишева, попавшего при Василии III в опалу, приводятся крамольные слова, которые он будто бы сказал о великом князе: «лутче старых обычаев держатися и людей жаловати, а старых почитати; а ныне деи государь наш, запершыся сам-третей у постели, всякие дела делает». Выражение «сам-третей» означает, что великий князь Василий Иванович совещался в спальне с двумя доверенными людьми, а сам был третьим в этом секретном совете.
. Формирование публичной политики, вовлечение в нее не только царских советников и бюрократов, но и представителей духовенства, дворянства и других влиятельных социальных групп — одна из примет возникающего модерного государства, которое строилось не только «сверху», но и «снизу».
50‐е годы XVI века принято считать эпохой реформ и связывать их с влиянием на царя кружка его ближайших советников, так называемой «Избранной рады» (термин восходит к сочинению знаменитого оппонента Ивана IV — князя Андрея Курбского, бежавшего от царского гнева в Литву и оттуда обличавшего тиранию Грозного) [15] Само слово «рада» (буквально «совет») представляет собой полонизм, характерный для творчества Курбского в бытность его в Великом княжестве Литовском. Выражение «избранная рада» примерно соответствует «ближней думе» московских государей.
. Предположительно в этот кружок, помимо самого Курбского, входили священник Сильвестр (духовник царя) и дворянин Алексей Адашев. Некоторые историки сомневаются в правительственной роли «Избранной рады», но для нас в данном случае важнее то, что нет никаких документальных подтверждений связи упомянутых деятелей с преобразованиями середины XVI века. Неясна и роль самого царя в этих преобразованиях.
Анонимность правительственных мер — примета средневековой администрации. Неизвестны, например, имена составителей статутов короля Казимира Великого (40‐е годы XIV века) — важнейших памятников польского права. Но в раннее Новое время, с ростом государственного аппарата и соответствующей документации, действия властей в большинстве европейских стран становились прозрачнее. И то, что мы, наверно, никогда не узнаем имена составителей Судебника Ивана Грозного (1550), говорит о слабой бюрократизации управленческого аппарата в России той эпохи.
Но дело не только в недостатке информации о переменах в жизни страны, которые историки, по аналогии с известными преобразованиями XIX века, называют «реформами». Важно также обратить внимание на официальное изложение и мотивацию предлагаемых мер. Вот как царь Иван, обращаясь на Стоглавом соборе к митрополиту Макарию и другим владыкам, говорил о принятом незадолго до того новом Судебнике:
Да благословился есми у вас <���…> Судебник исправити по старине и утвердити, чтобы суд был праведен и всякие дела непоколебимо вовеки. И по вашему благословению и Судебник исправил, и великие заповеди написал, чтобы то было прямо и брежно, суд был праведен и беспосулно во всяких делех.
Да получил я у вас благословение <���…> Судебник исправить по старине и утвердить, чтобы суд был праведен и всякие дела непоколебимо вовеки. И по вашему благословению я Судебник исправил и великие правила написал, чтобы было верно и надежно, суд был праведен и неподкупен во всяких делах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: