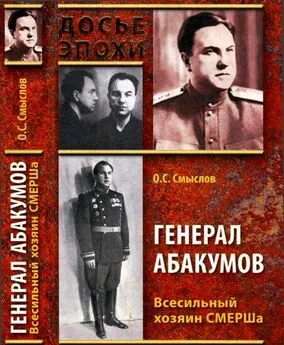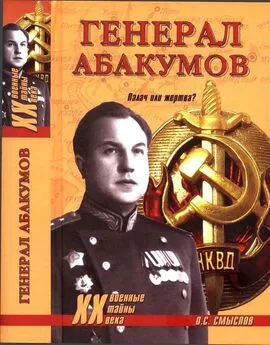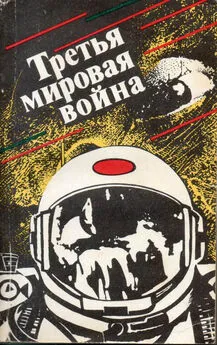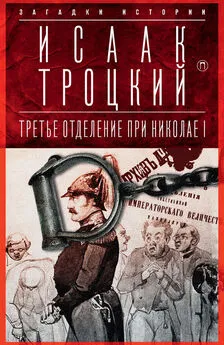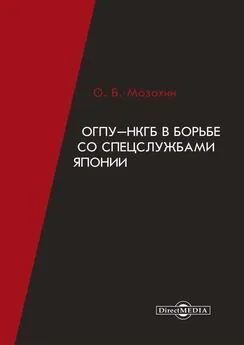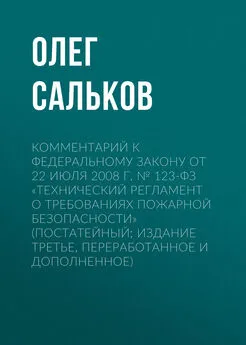Олег Абакумов - Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.]
- Название:Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-07747-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Абакумов - Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.] краткое содержание
В книге использованы материалы, подготовленные в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16–41–93553.
Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вскоре появились и конкретные факты. В апреле 1827 г. начальник 2-го округа корпуса жандармов А. А. Волков докладывал А. Х. Бенкендорфу, что «подпоручик Полторацкий, молодой, прекрасно воспитанный человек, имел нещастную минуту проиграть здесь до 700 тысяч рублей» [695].
5 мая 1927 г. московским генерал-губернатором Д. В. Голицыным было получено отношение, в котором сообщалось о том, что император, узнав о московском происшествии и видя, «что азартные игры в карты в Москве не искореняются, невзирая на многократные запрещения и строгие подтверждения о нетерпимости их» [696], потребовал доложить о принятых мерах. По поручению генерал-губернатора столичной полиции быстро удалось установить обстоятельства случившегося, участников игры и выяснить, что картежный долг маскировался заемными письмами. В результате — вмешательство власти было энергичным. Для того чтобы не допустить разорения семейства С. Д. Полторацкого, над его имением была учреждена опека, продолжавшаяся 9 лет. Два участника обыгрыша поплатились за свое «везение» многолетней административной ссылкой, а еще один игрок был переведен из гвардии в армию с понижением чина.
Несмотря на то что азартные игры были запрещены, они велись с молчаливого согласия представителей власти. Симбирский жандармский штаб-офицер Э. И. Стогов вспоминал, что частенько великодушно разрешал поиграть [697]. В дворянском собрании для этого на всех балах была отдельная комната. В подобных действиях, по мнению жандарма, была определенная польза, так как допускался деликатный контроль за игроками. Однажды 18-летний сын богатых и влиятельных родителей проиграл 30 тыс. руб.; чтобы избежать огласки и шума, Э. И. Стогов попросил деньги вернуть, и «в тот же вечер проиграли ему обратно» [698]. Далеко не всегда ситуация разрешалась примирительно. Погашение карточного долга было делом чести, потому крупный проигрыш мог иметь весьма серьезные последствия.
Проблема становилась серьезной, когда за дело брались карточные шулера, зачастую жившие открыто и на широкую ногу. Для наказания по суду их необходимо было поймать за игрой или получить собственное признание, что было невероятно сложно. Современник вспоминал, как однажды кампания, инициированная против «червонных валетов», или «рыцарей зеленого поля», самим министром внутренних дел Л. А. Перовским, чуть было не увенчалась успехом. Несмотря на запирательство обвиняемых, на основании собранных улик и показаний пострадавших было составлено дело в огромном фолианте, уже подготовленное для рассмотрения в Правительствующем сенате.
«Все однако ж обвиняемые оставлены были на свободе, и наконец, накануне доклада, дело из Сената вытребовано было шефом жандармов, графом Бенкендорфом, „для некоторых соображений“. Оно так и осталось не рассмотренным в судебном порядке. Третье отделение собственной е. и. в. канцелярии вероятно, по почерпнутым из этого дела указаниям, приняло меры к обузданию запрещенной игры» [699], — сообщал О. А. Пржецлавский. В этом суждении, думается, не намек на коррупционный маневр со стороны игроков, а указание на то, что иногда, дабы не допустить судебного оправдания из-за шаткости улик и доказательств, власть использовала меры административного воздействия на обвиняемых.
Хотя, говоря «о мерах к обузданию игры», мемуарист иронизировал, указывая, что это не помешало председателю управы благочиния И. Г. Клевенскому проиграть более 300 тыс. руб. казенных денег [700]. Кроме того, О. А. Пржецлавский отмечал, что «в выигрыше участвовало лицо не то чтобы высокопоставленное, в свое время очень влиятельное и так же, как Клевенский, принадлежавшее, хотя и в высшей сфере, к блюстителям благочиния …» [701]. На мой взгляд, это намек на Л. В. Дубельта.
О деталях «операции» по выявлению и аресту картежных игроков был информирован император. Именно управляющий Третьим отделением Л. В. Дубельт, в отсутствие А. Ф. Орлова, докладывал, что «по частным сведениям ему известно, что после великих усилий д[ействительного] с[татского] с[оветника] Липранди, с[татский] с[оветник] Клевенский сознался в похищении им сумм и объявил при том, что он проиграл ее в банк арестованным лицам» [702]. Об особой важности этого дела свидетельствовала резолюция Николая I на докладе Л. В. Дубельта (7 октября 1847 г.): «За этим делом надо следить, ибо арест полицмейстера столицы [703]и накануне моего приезда, без явных улик в его вине, дело весьма несогласное с порядком службы» [704].
Следствием повышенного внимания стало и необычное решение по этому случаю. Служивший в Сенате К. Н. Лебедев считал, что дело это «решено не юридически», «по шемякински» [705]. Помимо наказания расхитителя средств, было решено взыскать «с игроков, Глинки, Болотнова и Либрехта» по 30 тыс. руб., с Трубачеева — 14 тыс. руб. «и со всех штраф по Уложению», остальную часть средств взыскать с членов управы и с чинов министерства внутренних дел, допустивших хищение. То есть сумма нанесенного ущерба компенсировалась. К. Н. Лебедев писал: «Валовой расчет конечно не имеет законного основания в распределении, и вообще судебной истины тут недостает; но […] решено ладно, и всем сестрам досталось по серьгам» [706].
Карточные вечера проходили и в доме тайного советника А. Г. Политковского, директора канцелярии комитета, высочайше учрежденного в 18-й день августа 1814 г. (так называемый «комитет о раненых»). В столице его называли Лукулл Политковский [707]или Политковский-Монте-Кристо [708]. Весь город говорил о его «валтасаровских пирах». «На этих балах, в покоях на улицу (Литейную) танцовали, а в задних на двор были расставлены столы для обыкновенной игры в маленькую […] Когда же бальное и танцовальное общество удалялось — сцена переменялась и в задних комнатах открывался жестокий бой за карточными столами, уже далеко не в маленькую, а просто в азартную. Тут-то деятели „общества“ [709]без милосердия стригли зазванных баранов с золотым руном, угощая их прохладительными яствами и питиями на роме, коньяке и тому подобных крепких напитках, а на заре выпускали их налегке, обстриженных и голых, как сокол» [710], — вспоминал Н. С. Голицын. Публикуя материал о Политковском, редактор «Русской старины» М. И. Семевский сослался на указание «А. Ф. Г.» о том, что «вся тогдашняя власть и сила перебывала на лукулловских пирах Политковского», в числе гостей пиршеств названы: военный министр А. И. Чернышев, санкт-петербургский генерал-губернатор А. А. Кавелин и Л. В. Дубельт [711]. Н. С. Голицын прямо назвал управляющего Третьим отделением «сообщником» Политковского [712].
Объяснения столь расточительной жизни весьма небогатого чиновника казались вполне вероятными. По признанию В. А. Инсарского: «Большинство думало, что тут главную роль играют карты, которые многим доставляют обильные средства, заменяя имения, места и другие правильные статьи» [713]. К тому же чиновник сам поддерживал эту версию получения дохода. «Близким знакомым, а быть может и официально заинтересованным лицам, Политковский рассказывал по секрету, что назад тому более 10 лет он выиграл в карты с лишком миллион рублей у сына известного миллионера Яковлева и что должник его, не имея еще в руках будущего огромного состояния, платит ему по 10 процентов, что и составляло годового дохода более 100 000 р. с.», — свидетельствовал О. А. Пржецлавский.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Олег Абакумов - Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.]](/books/1097977/oleg-abakumov-trete-otdelenie-na-strazhe-nravstven.webp)