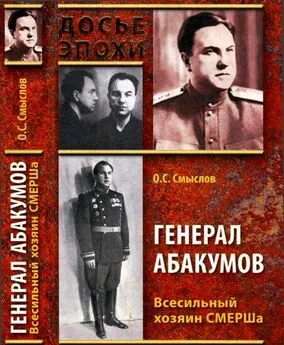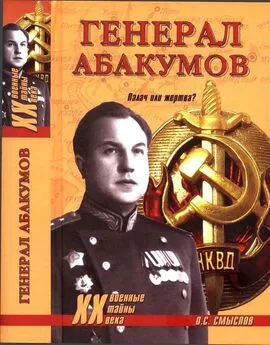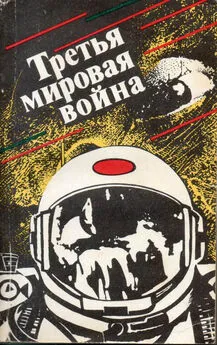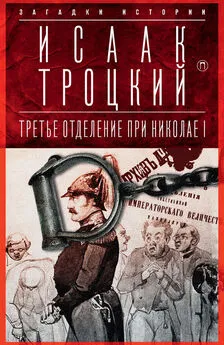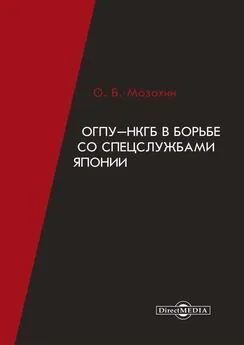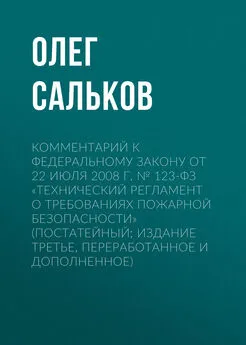Олег Абакумов - Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.]
- Название:Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-07747-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Абакумов - Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.] краткое содержание
В книге использованы материалы, подготовленные в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16–41–93553.
Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Естественно, спектр развлечений жителей столицы 1830–1860-х гг. был значительно шире зафиксированного тайной полицией. Заинтересованное в сохранении и поддержании традиционных устоев, полицейское ведомство изначально было ориентировано на фиксацию девиантного поведения, выявление факторов его предопределявших и способствовавших изменению канонов. В канун Крестьянской реформы 1861 г., по наблюдению А. Ф. Некрыловой, «официальные круги все с большей опаской глядели на скопление народа в центре города в дни традиционных гуляний и ярмарок, на обилие бесцензурных речей, свободного слова на праздничной площади» [871]. Следствием стало вытеснение зрелищных мероприятий на окраины, в загородные сады и парки, пристальный контроль и цензура текстов балаганных представлений, пьес, афиш.
После покушения Д. В. Каракозова на императора Александра II необходимость усиления надзора стала еще более очевидной. Чиновник Третьего отделения Н. Д. Горемыкин представил новому шефу жандармов П. А. Шувалову записку, обосновывавшую «насущную […] и неотложную потребность» наблюдения. Для повышения эффективности надзора следовало обеспечить свободный доступ агентов в места скопления публики: «Агенты наши поддерживают этим знакомство с нужными для нас лицами и приобретают новое, конечно, в наших видах полезное знакомство» [872]. Чиновник убеждал новое руководство в том, что, стремясь обеспечить постоянное посещение загородных гуляний, не следует заставлять агентов делать это за свой счет, так как они получают «крайне ограниченное содержание» (от 25 руб. до 100 руб.). Наибольшее вознаграждение получали только два агента в силу специфики их деятельности, связанной с денежными тратами.
В записке приводился примерный расчет средств, одновременно показывающий и объекты жандармского внимания: шесть клубов — «немецкий, прикащичий, благородного собрания, купеческий, служительский и поощрения художников» с платой за вход по 1 руб., то есть 6 руб. ежедневно; пять загородных гуляний со стоимостью входа по 1 руб. на три и оставшиеся два сада — по 30 коп., итого 3 руб. 60 коп.; разные мелкие сады (до 10) с платой от 20 до 30 коп., в среднем — 2 руб. 50 коп. в день. Добавлялись еще посещение ежемесячных собраний в клубах (по 12 руб. в каждом), прочие мелкие зрелища — 70 руб., разъезды по городу 2 агентам — 60 руб. и т. д. [873]
Тотальный надзор за массовым времяпровождением горожан для выявления следов политической активности и предотвращения злоумышлений превращался в дорогое занятие, с далеко не очевидной эффективностью и результатом.
Глава 6. Высшая полиция: наблюдение за общественной нравственностью и здоровьем
Вечная проблема любого государства: противодействие или регламентация проституции — не прошла мимо и государства Российского.
Традиционно половые преступления и отклонения от «нормативной» сексуальной жизни находились в ведении православной церкви. Соборное уложение предусматривало только ответственность за сводничество для блуда. Петр I добивался цели поддержания боеспособности армии и обеспечения физического здоровья солдат, поэтому в ст. 175 «Артикулов воинских» было четко определено: «Никакия блудницы при полках терпимы не будут, но ежели оные найдутца, имеют оныя без разсмотрения особ, чрез профоса раздеты и явно выгнаны быть» [874]. Важно отметить, что законодатель четко обозначил, что насилие «над явною блудницею» и «честною женою» «все едино», и «надлежит судье не на особу, но на дело и самое обстоятельство смотреть» [875].
При Елизавете Петровне Главная полицмейстерская канцелярия была озадачена сыском «непотребных жен и девок, как иноземных, так и русских» для заключения в Калинкинский дом [876]. При Екатерине II «непотребных девок» Мануфактур-коллегии предписывалось определять в работу на фабрики. Система безусловного запрета проституции из прошлого законодательства перешла в Свод законов Российской империи (1832). Действовавший Сельский полицейский устав (1839), Наказ чинам и служителям земской полиции (1837) предписывали наблюдать за тем, чтобы не было «чинимо и допускаемо» «всякого разврата нравов», уличенных в «непотребстве» наказывать общественными работами. Причем ужесточение ответственности заметно в статье 781 Свода законов уголовных (1842): «виновные в блуде подвергаются тюремному заключению и церковному покаянию» [877].
Однако через несколько лет позиция законодателя существенно изменяется. По наблюдению А. И. Елистратова, «в Уложении 1845 г. впервые […] в истории русского законодательства проявляются проблески либеральной идеи в отношении непотребства идеи сексуальной свободы личности» [878]. «Сожитие неженатого с незамужнею» теперь предусматривает только церковное покаяние, если оно не обращено в ремесло. Ст. 1249, 1287. С начала 1840-х гг. ведется разработка полицейского регламента с целью борьбы с «любострастными болезнями», предполагающего составление правил надзора за публичными женщинами. В сентябре 1843 г. министром внутренних дел Л. А. Перовским был внесен в Комитет министров проект создания в столице в виде эксперимента на два года при медицинском департаменте врачебно-полицейского комитета, для надзора за женщинами, промышляющими развратом. Это предложение получило одобрение императора. 29 мая 1844 г. министром были утверждены особые правила для содержателей борделей и публичных женщин [879]. Тем самым абсолютно запрещенное уголовным законом стало регулироваться ведомственным циркуляром. В марте 1848 г. министр внутренних дел Л. А. Перовский и министр юстиции В. Н. Панин получили согласие императора на предложенный механизм освобождения от ответственности поднадзорных проституток за непотребство, если они не повинны ни в каком другом преступлении.
Поскольку все распоряжения по этому вопросу осуществлялись через систему Министерства внутренних дел, Третье отделение вмешивалось в правоприменительную практику только в случаях, затрагивавших государственные интересы.
6 февраля 1839 г. М. А. Корф сделал запись в своем дневнике о событии, произошедшем на Масленицу: «Один чиновник французской миссии схвачен был полициею вместе с несколькими русскими в публичном доме, где они неиствовали над хозяйкой и послушницами до такой степени, что крики и вопли привлекли стражей общественного благочиния» [880]. Учитывая статус дебошира и последовавший его скорый отъезд на родину, можно предположить, что это дело не осталось без внимания Третьего отделения, тайно опекавшего иностранных гостей.
Высшей полиции приходилось участвовать и в решении глобальных вопросов — обеспечения здоровья военнослужащих.
5 мая 1842 г. жандармский штаб-офицер А. И. Ломачевский рапортовал шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу о ситуации, сложившейся в Минской губернии. Жандарма беспокоила несогласованность в действиях местных властей, ставившая под угрозу исполнение высочайшего повеления [881]. Дело в том, что осенью 1841 г. во время пребывания императора в Ковно, посетив военный госпиталь, он заметил в нем большое число нижних воинских чинов, находившихся на лечении от венерических заболеваний. Император распорядился принять строгие меры для того, чтобы на будущее время, «вблизи лагерей казарм и мест, где расположены войска, не было непотребных женщин» [882]. Генерал-губернатор Гродненский, Минский, Белостокский Ф. Я. Миркович немедленно предписал Минскому губернскому правлению «непотребных женщин, зараженных венерическою болезнью, по излечении строго наказывать розгами, брить ими головы и высылать из города» [883]. Однако губернское правление указало на незаконность подобных действий. Детали конфликтной ситуации проясняет отношение А. Х. Бенкендорфа к министру внутренних дел Льву Александровичу Перовскому от 16 мая 1842 г. В ответ на предписание генерал-губернатора Минское губернское правление осуществило некоторые меры, но не посчитало возможным предписать полиции «без суда наказывать розгами женщин, излечаемых от любострастной болезни, о бритье им голов и высылке из города, так как мера сия вовсе не согласуется с существующими узаконениями» [884]. Ф. Я. Миркович подтвердил безусловность исполнения предложенных им мер. Минское губернское правление вновь указывало на серьезную проблему, которая возникла бы при исполнении этих распоряжений: она «повела бы к величайшим злоупотреблениям и к неизбежной ответственности, поелику между развратными женщинами часто встречаются не только вдовы, жены и дочери чиновников, но и дворянки, по коренным законам телесному наказанию не подлежащие». Другой «неудобоисполнимой мерой» было «учреждение при полиции больниц, для пользования женщин зараженных венерическую болезнью». В то же время, как стало известно шефу жандармов, генерал-губернатор одобрил и передал в Минское губернское правление для примера распоряжение Гродненского губернского правления, согласно которому предложено «развратных женщин, излечаемых от любострастных болезней, отдавать помещикам или обществам, если они согласятся уплатить за их лечение, в противном случае женщин этих отсылать на работы» [885].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Олег Абакумов - Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.]](/books/1097977/oleg-abakumov-trete-otdelenie-na-strazhe-nravstven.webp)