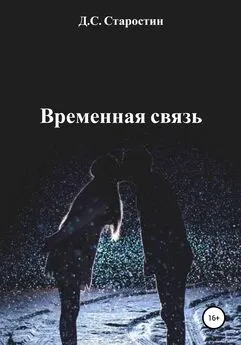Дмитрий Старостин - Между Средиземноморьем и варварским пограничьем [Генезис и трансформация представлений о власти в королевстве франков]
- Название:Между Средиземноморьем и варварским пограничьем [Генезис и трансформация представлений о власти в королевстве франков]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр гуманитарных инициатив
- Год:2017
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-98712-771-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Старостин - Между Средиземноморьем и варварским пограничьем [Генезис и трансформация представлений о власти в королевстве франков] краткое содержание
Книга адресована историкам-медиевистам и широкому кругу читателей.
Между Средиземноморьем и варварским пограничьем [Генезис и трансформация представлений о власти в королевстве франков] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Очевидно, монастыри были общинами совершенно другого рода, как правило, находились в сельской местности или в пригородах. Отсюда резонно предположить, что вокруг них выстраивались совершено другие социальные связи, нежели в городе. Жития Эдуэна Руанского и Элигия Нойонского, двух епископов, подвизавшихся в VII в., показывают — когда прелатам приходилось вести дела за пределами городов, им нужно было заново завоевывать авторитет у представителей местной знати, которые скептически относились к претензиям клириков, выступавших лидерами городских общин верующих {176} . В сельской местности иерархи меньше страдали от непредсказуемости предпочтений городского населения, ведь жители часто оказывали самое непосредственное влияние на выборы епископов. А монастыри, находившиеся в удалении от городов, были более независимы от них. Поэтому обители в сельской местности могли иметь двоякое значение: некоторые их них становились альтернативой власти епископов в результате действий местной знати, а некоторые претендовали на роль форпоста епископов в сельской окраине.
Как показали исследования, рост значимости монастырей нельзя объяснить, если пользоваться теми представлениями об иноческой жизни и святых обителях, которые были характерны для некоторых ученых в XX в. В частности, ситуация не прояснится, если рассматривать монастыри не в том особом европейском контексте, что сложился к VII в., а оценивать обители исключительно как общины аскетов. Иными словами, следовать по тупиковому пути многих историков, изучавших развитие Христианства и пользовавшихся для объяснения развития монашества примерами из восточного Средиземноморья {177} . Внезапный интерес к уходу от мира в пустынь — а именно так понималось обращение в монашество учеными, занимавшимися ранним христианством, — был странен для раннесредневековой Европы, уровень экономического и городского развития которой весьма отставал от урбанизированного Средиземноморья. Более позднее распространение монашества в западном Средиземноморье, как считают медиевисты, связано с затянувшейся христианизацией региона {178} . Поэтому Ф. Принцу и понадобилось ввести в картину развития монашества фактор «ирландского влияния», способный объяснить, почему в позднемеровингский период обители «вдруг» начали учреждаться в массовом порядке. Отход от концепции Ф. Принца и доказательство незначительности ирландского влияния (которые можно найти в монографим Н.Ф. Ускова) ставят вопрос о причинах развития монастырей в позднемеровингской период.
Для понимания механизмов распространения монашества в Раннем Средневековье и уяснения его влияния на изменения в представлениях о власти следует сделать небольшой экскурс в Позднюю Античность. Историю аскетизма традиционно начинают с Египта, где за пределами оазисов Нила с начала IV в. стали возникать отдельные общины монахов (буквально, «одиночек»), ушедших от мира и живших по своим законам. Уже через столетие слава о египетских монахах распространилась по всей Римской империи {179} . Традиционно считается, что св. Антоний был первым монахом-анахоретом, св. Пахомий, вслед за ним, способствовал развитию жизни в монашеских общинах. Однако эта упрощенная история возникновения монашества не подтверждается источниками. Считалось, что ценности иноческого образа жизни вытекают из существа самой христианской религии, и поэтому распространение монашества было естественным для Поздней Античности процессом. Однако есть исследователи, которые отмечают важный момент: когда люди из богатых и знатных слоев общества вступали в монашеские общины, то привносили в них свои представления о том, как должны быть организованы христиане, т.е. комплекс идей, больше связанный с городской культурой, чем идеалами иноческого бытия в его египетском варианте {180} .
По этой причине суть монашества претерпела изменения в процессе его «разрастания» по всему Средиземноморью. Ярким примером является Галлия, где хаотическое и нерегулируемое распространение общин, исповедующих аскезу, начавшееся при поддержке св. Мартина в IV в., постепенно сменилось кардинально иной ситуацией. В V в. идеальным образом монастыря стала загородная вилла богатого землевладельца, на которой собирались представители образованных аристократических слоев для истолкования христианских доктрин [35]. Происходившее в Галлии — пример более общих тенденций. Так, в VI в. Кассиодор, потомок влиятельного сенаторского рода, создал Виварий — небольшую монашескую общину, главная цель ее членов заключалась в копировании античных текстов, которые основатель посчитал возможным сохранить для христианского употребления. Подобным образом в Поздней Античности в Западном Средиземноморье сложился образ монастыря, оказавший значительное влияние на последующее развитие данной формы организации церковной жизни в регионе. Указанный образ подразумевал, что монастырь был поселением вне города, значительную часть которого составляли образованные люди из средних и высших слоев общества. Основную часть их времени занимало служение Богу, предполагавшее, среди прочего, не только умерщвление плоти, но и другие занятия. В частности, благим делом, полезным для монаха, считалось переписывание рукописей христианских и языческих авторов [36]. Поэтому в Поздней Античности и в Раннем Средневековье монастыри прекратили быть просто общинами аскетов и превратились в важный элемент социальной организации, они стали точками взаимодействия между городами и сельской местностью, между правителями, знатью и образованными жителями городов. В силу постепенного ослабления власти в Западно-Римской империи монашество в ней осталось конгломератом разнородных общин, и оно никогда не превратилось в монолитную среду, как это произошло в Восточно-Римской империи {181} . Развитие монашества в раннесредневековой Европе не было простым распространением аскетического образа жизни, а, скорее, процессом, в результате которого обращение в монашество все большего числа людей приводило к изменению форм существования общин {182} .
«Житие Колумбана» сообщает: сразу по прибытию в Галлию этот благочестивый монах из Ирландии отправился ко двору короля Австразии Сигиберта, связав свою пастырскую деятельность с государевой курией. Примечательно, однако, что под влиянием Колумбана многие представители франкской знати стали вступать в монастыри {183} . Пристрастное прочтение текста жития привело Ф. Принца к выводу, будто королевская власть оказывала значительную поддержку распространению монашеского образа жизни в соответствии со смешанным уставом Бенедикта-Колумбана [37]. В частности, ученый считал, что раз Колумбан появился при дворе короля Сигиберта, то и его монашеская община находилась при курии. Принц истолковывал данный фрагмент текста как доказательство заинтересованности короля Австразии и его свиты в утверждении монастырей, организованных в соответствии с ирландским уставом, и в итоге заключил — их распространение получило одобрение со стороны этого и других меровингских правителей {184} . Однако подобные толкования кардинальным образом меняют картину развития Франкского королевства при Меровингах и не дают возможности понять, почему же она в какой-то момент уступила место другой династии — Каролингской.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Дмитрий Старостин - Между Средиземноморьем и варварским пограничьем [Генезис и трансформация представлений о власти в королевстве франков]](/books/1100074/dmitrij-starostin-mezhdu-sredizemnomorem-i-varvars.webp)

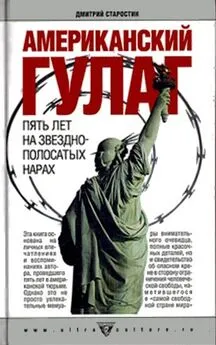


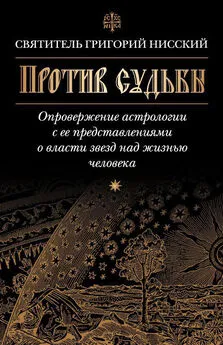

![Марк Блок - Короли-чудотворцы [очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространённых преимущественно во Франции и в Англии]](/books/1088174/mark-blok-koroli.webp)