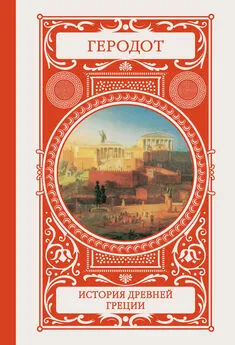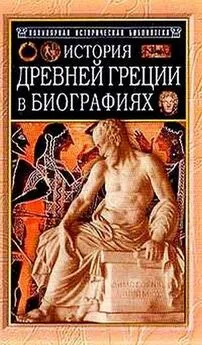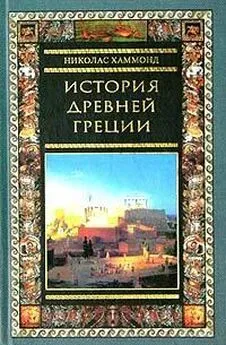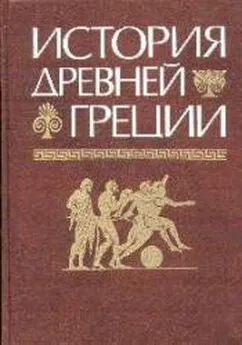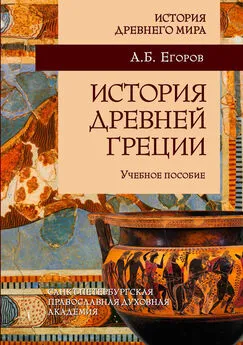Геродот - История Древней Греции
- Название:История Древней Греции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2017
- ISBN:978-5-17-102663-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геродот - История Древней Греции краткое содержание
Его знаменитая «История» с древнейших времен была причислена к выдающимся произведениям историографии. Александрийские ученые разделили сочинение на девять книг по числу муз, и каждая книга была названа именем одной из них. Первые четыре являются обширным введением и посвящены истории Греции и ее восточных соседей. Последние пять книг рассказывают о событиях величайшего мирового значения, предопределивших весь ход исторического процесса в Элладе, – о Греко-персидских войнах (500–449 годы до нашей эры). Грандиозный труд стал первым подлинно историческим произведением.
История Древней Греции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Материалом для отдельных частей повествования, впоследствии сложенных в одно целое, послужили в значительной мере заметки, собранные Геродотом, на месте во время путешествий. Он обозревал хранившиеся в храмах священные предметы, записывал ответы и объяснения жрецов или проводников своих, а также тех потомков знаменитых личностей, с которыми знакомился, измерял объем сооружений или глыбы камней, привлекавших его внимание. Для подтверждения своих показаний историк ссылается на собственное наблюдение и осмотр пожертвованных и хранившихся в храмах предметов или памятников, воздвигнутых павшим в боях эллинам, на эллинские надписи, подобные псевдокадмейским надписям в Фивах, на предания и оракулы, на беседы с очевидцами событий и местностей, на слова египетских жрецов или, вернее, переводчиков, на персидских и финикийских писателей, наконец, на эллинских поэтов, историков и географов. «Однако пример кадмейских надписей, – замечает Сэйс, – показывает, что Геродот не умел различать между поддельными и подлинными надписями даже в том случае, когда имел дело с надписями эллинскими; поэтому мы должны осмотрительно принимать уверения автора в предполагаемой эпиграфической очевидности, раз нам неизвестно, каковы были самые надписи». Кроме таких памятников, Геродот, по мнению Сэйса, пользовался также официальными записями наподобие спартанского списка царей. Отсюда объясняет он противоречие в показаниях историка о времени жизни Геракла между книгами II (145), с одной стороны, и VII (204), VIII (131) – с другой: в двух последних книгах между Гераклом и Леонидом полагается промежуток времени в 20 поколений, т. е. в 660 лет, а до составления истории 710 лет; между тем во II книге тот же герой отделяется от Геродота 924 годами, потому что в этом последнем случае автор следовал другой генеалогии. Оракулы составляли часть устных преданий, из которых обильно черпал историк; впрочем, некоторые изречения оракулов, например те, что приписывались Мусею и Бакиду, были записаны; Сэйс признает также возможным, что до Геродота составлена была рукописная компиляция изречений дельфийского оракула. Что историк пользовался персидскими и финикийскими писателями, об этом он ясно говорит сам, но столь же несомненно, что как персидского, так и других восточных языков он не знал вовсе. В Малой Азии, Финикии и Египте не могло не находиться людей, которые кроме родного языка знали и язык Геродота; но обыкновенно такие лица принадлежали к низшим классам; они служили для путешественника и проводниками, и переводчиками, при помощи их он знакомился с официальными туземными документами, с персидскими и финикийскими сочинениями. Произведения родных поэтов Геродот в значительной мере знал наизусть, а цитаты из них почитались признаком хорошего воспитания, почему историк охотно и часто называет поэтов по именам.
Совсем в другом свете представляется Сэйсу отношение Геродота к предшественникам-прозаикам. «Это были его соперники, – замечает он, – место которых Геродот желал занять сам. Знакомством с именами прозаиков писатель не мог блеснуть. В этом случае главной целью автора было воспользоваться материалом предшественников, не оставляя следов заимствования. Он старался производить на читателя впечатление собственного превосходства над прежними прозаическими писателями: он хвалится тем, что принимает только слышанное от очевидцев (III, 115; IV, 16), и называет Гекатея разве тогда только, когда рассчитывает опровергнуть его или сделать смешным. Даже больше: несомненно, что Геродот образованием своим был много обязан Гекатею и что с особенным усердием и не стесняясь делал заимствования в описании Египта из сочинений писателя, которого желал затемнить. Геродот писал для общества молодого и развивающегося, а не для расслабленного и дряхлеющего, и если в Древнем Египте или в первые века нашей эры вернейшим средством обеспечения успеха книге было приписать ее какому-нибудь древнему автору, то у читающих эллинов в век Геродота путь к славе прокладывался исканием новизны и пренебрежительной критикой старых писателей. Обращение Геродота с Гекатеем заставляет нас ожидать такого же отношения его и к другим писателям, трудами которых он пользовался без упоминания имен. Ожидание это оправдывается такими местами его книги, как II (15, 17) и IV (36, 42), где осмеиваются другие авторы, писавшие о том же предмете и предполагавшиеся известными слушателям, или как упоминанием (VI, 55) составителей генеалогии, которые не сопоставляются с Геродотом и потому совсем умалчиваются». Сэйс перечисляет предшествовавших «отцу истории» прозаиков и старается уверить нас, что, кроме Гекатея, он делал заимствования из сочинений Дионисия Милетского, которому обязан будто бы самой идеей своего труда, из Евгеона, Харона, лидийца Ксанфа, произведения коих можно было находить в библиотеках различных городов, скорее всего в афинской.
Таковы были, по мнению Сэйса, источники сведений Геродота. Собирание материала должно было закончиться не позже 426 года, так как в труде историка не нашло себе места ни одно из событий, следовавших за этим термином.
Прежде чем перейти к дальнейшей аргументации критика в решении двух других задач, посмотрим, насколько состоятельно решение первого вопроса, об отношении Геродота к источникам.
Рассуждения Сэйса уже в самом начале обличают большую долю произвола и натяжек. Главный пункт обвинения, выставленный против Геродота, состоит в намеренной утайке литературных источников и в превознесении себя на счет предшественников. По поводу этого обвинения читателю необходимо припомнить, что в Древней Элладе та манера обращения с источниками и литературными пособиями, за которую английский издатель столь жестоко укоряет Геродота, была обща всем писателям без исключения; отсюда происходит, между прочим, чрезвычайная трудность в точном определении источников того или другого древнего писателя и слишком относительное достоинство результатов, какие получаются новыми филологами в этой области исследования. Сознал это, впрочем, и сам критик в предисловии ко второй из названных выше книг, хотя не без оговорки, будто Геродоту черта эта свойственна была в высшей мере, нежели кому-либо иному из его соотечественников, – оговорка и излишняя, и неверная: чтимый критиком Фукидид из числа своих предшественников называет по имени единственного писателя Гелланика, всего один только раз для того, чтобы отметить хронологическую неточность в его показаниях (I, 97), а других писателей не упоминает вовсе, хотя и полемизирует с ними. Что же должен бы ввиду этого думать Сэйс о Фукидиде?.. Решительно неправ он и в том, будто Геродот полемически или скептически относится только к прозаикам, но не к поэтам. А Гомер, этот образец для подражания эллинских поэтов? Разве «отец истории» предпочитает гомеровскому варианту легенды о похищении Елены то предание, которое он слышал от жрецов или проводников своих в Египте? Да и к «жрецам» он обратился с расспросами по этому предмету после того, как усомнился в правдоподобности гомеровского повествования. Предпочтение Гомером рассказа менее правдоподобного, даже совсем недостоверного историк объясняет требованиями художественной композиции (II, 116–120). Гомеровское представление об Океане, обтекающем кругом землю, Геродот отвергает безусловно, как не подлежащее даже оценке (II, 23; IV, 8, 36). Далее, разве Геродот принимает гомеровско-гесиодовскую теогонию и не предпочитает эллинскому изображению богов богопочитания и религиозных представлений персов (I, 131; II, 53)? Наконец, у него же мы находим и такое выражение: «если можно утверждать что-либо на основании поэтов» (ει χρη τι τοισι εποποιοΐσι χρεωμενον λεγειν II, 120), причем в числе поэтов разумеется прежде всех Гомер; выражение Геродота тождественно по существу с мнениями Солона (Πολλά ψεύδονται αοιδοι), Фукидида (I, 10, 21) и Ксенофана о древних певцах-поэтах. Вычеркнуть все это из труда Геродота нет возможности; между тем этого рода данные показывают всю неосновательность уверений критика, желающего видеть в Геродоте только ревнивого и завистливого соперника Гекатея, Харона и прочих прозаиков. Что касается того, будто Геродот заимствовал из прозаических писателей гораздо больше, чем обыкновенно думают, то вопрос этот не может быть разрешен голословным заверением критика, не представляющего ровно никаких оснований для своих уверений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: