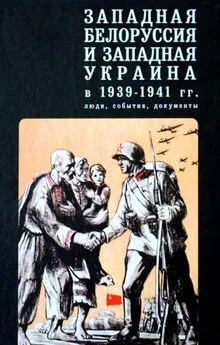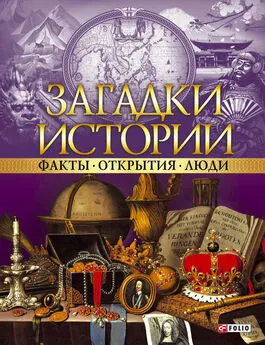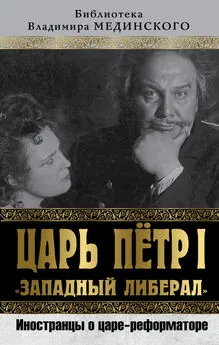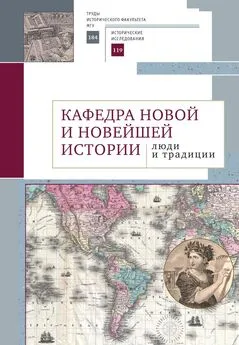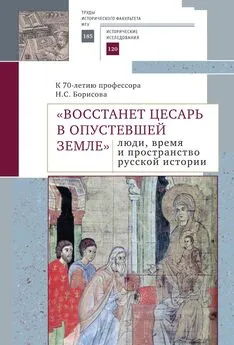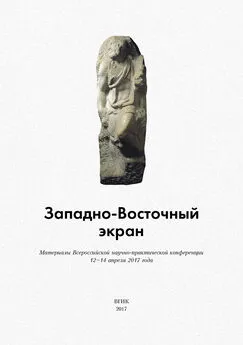Коллектив авторов - Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939-1941 гг.: люди, события, документы
- Название:Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939-1941 гг.: люди, события, документы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2011
- Город:СПб
- ISBN:978-5-91419-549-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939-1941 гг.: люди, события, документы краткое содержание
Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939-1941 гг.: люди, события, документы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
О том, что для советского руководства второй половины 30-х годов разделение нации на «враждебных» и «дружественных» ее представителей не было пустой риторикой, говорит хотя бы тот факт, что даже в первые месяцы Великой Отечественной войны советская пропаганда еще делала неуклюжие попытки разделить «хороших» немцев (немецких рабочих) и гитлеровцев (нацистов) в наивном ожидании, что немецкий пролетариат окажет Гитлеру сопротивление и остановит нашествие на Советский Союз. Впрочем, отрезвление пришло достаточно быстро, и острие пропаганды было перенаправлено на этническую составляющую образа врага (ср., например, статью И. Эренбурга «Убей немца» или стихотворение К. Симонова «Убей его!»).
Выработка и распространение основного прецедентного текста об «освобождении» новых советских территорий касались не только сфер взрослой жизни. Эти тексты были призваны сформировать у подрастающего поколения единое отношение к свершившемуся событию, интерпретирующее его в нужном ключе. Это касалось не только детей на присоединенных территориях, но и детей в метрополии. Создание «детских» прецедентных текстов происходило как через каналы дошкольного и школьного образования, так и через неофициальный дискурс, который также находился под пристальным идеологическим контролем. Речь, в частности, идет о такой новой для конца 30-х годов форме детской ритуальной жизни, как новогодние елки (напомним, что советская новогодняя елка взамен «буржуазной» рождественской была разрешена накануне 1937 г. после двадцати лет запрета). Новогодние сценарии встречи 1940 года (утверждавшиеся Главным управлением по контролю за зрелищами и репертуаром) были призваны объяснить детям в доступной для них форме цели продвижения советских войск на территорию Западной Украины и Белоруссии. В частности, новогоднее представление «Под елкой» (сценарий В. Пановой) содержало следующий эпизод: «Ребята водят хоровод вокруг нарядной елки. Игрушки оживают и веселятся вместе с ребятами. Дед Мороз рассказывает, как тяжело жилось раньше маленьким украинцам и белорусам под гнетом польских панов» [441]. Гибридная форма обозначения врага («польские паны») позволяет одновременно актуализировать и классовый аспект (под гнетом панов), и национальный: украинцы и белорусы, безусловно, входящие в число «своих» (особенно в рамках выстраиваемого в это время советского варианта «большой русской нации»), представлены как жертвы угнетения «чужих» поляков. Эта идея активно реализовывалась в разных видах текстов, в частности, в агитационных плакатах того времени. «У русских и украинцев закон один — не будет пан над рабочим господин» и др. Подобные примеры позволяют проследить, как в течение 30-х годов на смену идее «классового врага» постепенно приходила модель «национального врага» и как эти модели сосуществовали в различных гибридных формах.
Показательно, что моделирование необходимой идеологической интерпретации исследуемого события в случае с новогодней елкой помещалось в рамки обрядовой ситуации, а роль «политинформатора» отводилась главному сакральному лицу новогоднего праздника — Деду Морозу. Уже в силу этого полученная информация воспринималась как безусловная и не нуждалась в дополнительных доказательствах, потому что включалась в центральный лейтмотив новогоднего сценария: Дед Мороз, как представитель добра, борется с кознями злых сил, в числе которых наряду со сказочными героями (Баба Яга, Кощей, разбойники) могли быть и вполне реальные политические враги (например, во время войны была популярна новогодняя открытка, на которой Дед Мороз изгоняет фашистов).
Все сказанное позволяет думать, что при продвижении советских войск на западные территории Украины и Белоруссии основной мотив «освобождения» этих земель уже полностью сложился и реализовывался в самых разных сферах от официальных политических заявлений и агитационных плакатов до сферы детского воспитания. Кроме концепта «освобождения» угнетенных польскими панами украинских и белорусских крестьян, этот текст содержал еще ряд концептуальных понятий, часть из которых уже была обозначена в процитированном сценарии новогоднего праздника. Прежде всего, это концепт объединения братских восточнославянских народов в рамках нового варианта «большой русской нации» ради строительства новой, счастливой жизни. Кроме того, важным для галицийских земель был концепт собственно украинского культурного строительства, свободного от польского давления, в том числе, — свободного функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни. Наконец, еще одной важной концептуальной чертой этого текста было представление об «отсталости», «нецивилизованности» жителей этого региона и необходимости их образования и распространения среди них прогрессивных форм советской общественной и экономической жизни (ср. традиционные формулировки «темнота и средневековье» в отношении к «панской Польше» в советских средствах массовой информации).
Важно, что формирование основного прецедентного текста об «освобождении» братских народов носило двусторонний характер — в освоении его главных концептов участвовали не только советские идеологи, но и определенная часть украинской интеллигенции Галиции [442]. Насколько со стороны последней это было добровольным и искренним убеждением, сказать трудно, но риторика «освобождения» успешно усваивается и используется разными слоями львовской интеллигенции для общения с новой властью «на ее языке» уже в 1939 г. В частности, в письме к Н. С. Хрущеву от 13 октября 1939 г., подписанном группой ученых, художников, писателей, композиторов Львова, дается обещание «отдавать все свое знание и навыки освобожденному (курсив наш. — Е. Л. ) народу, строительству новой советской жизни…» [443]. Концепт славянского единства также был вполне знаком галицкой элите, хотя, безусловно, подразумевал иные, не имперские смыслы, а воспринимался скорее в свете борьбы с общим, немецким врагом. В частности, командующий обороной Львова 1939 г. генерал Лянгнер на переговорах с советскими генералами об условиях сдачи Львова, указывая, что его войска одновременно ведут бои с немцами, обосновывал сдачу Львова Красной армии именно традициями славянского единства.
Присоединение западноукраинских территорий к Советскому Союзу помимо их экономической и общественной перестройки по советскому образцу влекло за собой и резкую перестройку всех культурных моделей от образовательной системы до внедрения новых, непривычных форм членения времени. Традиционная неделя заменялась существовавшей тогда в Советском Союзе шестидневкой, при которой пять дней были рабочими, а шестой выходным независимо от дня недели, на который он выпадал. Это не могло не провоцировать острые культурные конфликты (например, еврейское население Галиции не выходило на работу в субботу, если на нее выпадал рабочий день, а христианское саботировало работу в воскресные дни). Часть этих конфликтов была вызвана к жизни именно приходом советской власти на данные территории, но другие конфликты была сформированы задолго до 1939 г. и лишь обострились или трансформировались с установлением советской системы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: