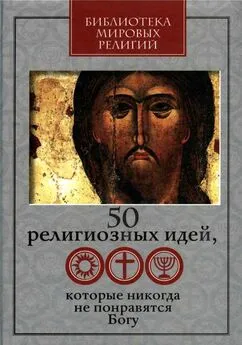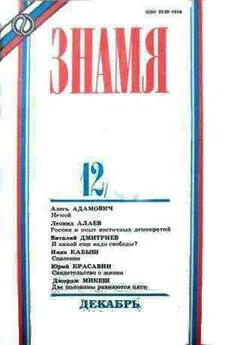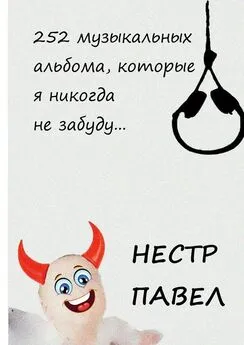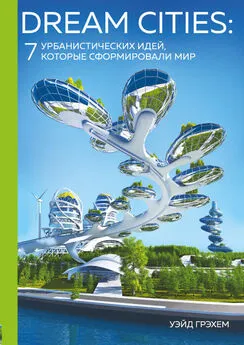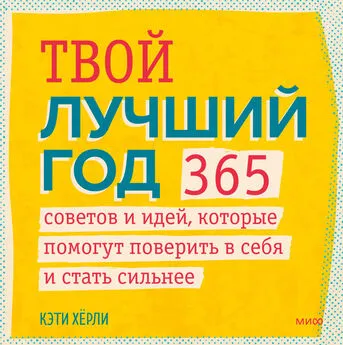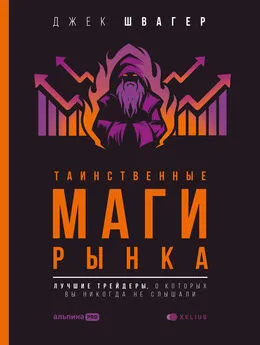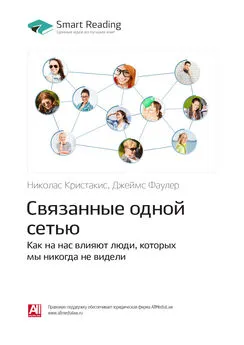Г. Ястребов - 50 религиозных идей, которые никогда не понравятся Богу
- Название:50 религиозных идей, которые никогда не понравятся Богу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Г. Ястребов - 50 религиозных идей, которые никогда не понравятся Богу краткое содержание
50 религиозных идей, которые никогда не понравятся Богу - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
• Дуализм . Красной линией через все зороастрийское богословие проходит идея противостояния Добра и Зла, Бога (Ахура-Мазды, то есть Мудрого Господа) и Сатаны (Ангра-Манью, то есть Злого Духа). Весь мир поляризован и находится в состоянии битвы. Напротив, иудейское богословие крайне редко мыслило в подобных категориях, считая, что как добро, так и зло исходят от Бога. (Отсюда проблема теодицеи, то есть богооправдания, в гораздо большей степени мучившая мыслителей иудейских и христианских, чем зороастрийских.) Тем не менее иудейская демонология явно испытала зороастрийское влияние.
• Апокалиптика . Древнейшие израильские Писания ничего не говорят о том, что мировая история имеет конец. Более того, одно из высказываний Торы можно даже понять в противоположном смысле: после всемирного потопа Бог вроде бы обещает, что новой катастрофы не будет («не буду больше поражать всего живущего… впредь, во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной… не прекратятся». Быт 8:21–22). Верно это впечатление или нет, в персидский период иудаизм все более охватывают апокалиптические чаяния конца века сего и пришествия Мессии. Безусловно, у истоков мессианской надежды как таковой стояли чисто иудейские реалии: надежда на то, что Израилем вновь будет править потомок Давида, который вернет стране былую славу, а ее жителям — справедливость. Но эти надежды подпитывались общением с зороастрийцами, которые верили, что нынешняя эпоха смешения добра и зла сменится торжеством правды и приходом Спасителя.
Воскресение . Согласно зороастрийским верованиям, в конце времен произойдет воскресение мертвых: состоится Страшный Суд и мертвые восстанут. Эти представления оказали влияние на иудаизм, где их отчасти усвоили, в частности, такие законники, как фарисеи. Через фарисейство эти взгляды попали, с одной стороны, в христианство, а с другой стороны, в последующий раввинистический иудаизм. (Хотя современные, более либеральные варианты иудаизма подчас относятся к концепции воскресения, как и вообще апокалиптическим настроениям, скептически.)
В эллинистическую эпоху имело место широкое влияние греческой культуры. Пожалуй, самое яркое свидетельство тому в библейском каноне — Книга Екклесиаста, написанная приблизительно в III веке до н. э., но в порядке литературной фикции приписанная царю Соломону, жившему семью веками ранее. Основной ее темой является бренность всего сущего, несправедливость земных порядков и отсутствие воздаяния праведникам и злодеям.
Всему и всем — одно: одна участь праведнику и нечестивому… Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их; а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда… а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению… в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости…
(Еккл 9:2-10).
Скептицизм Екклесиаста настолько глубок, что какой-то последующий благочестивый редактор добавил к книге слова: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд…» (Еккл 12:13–14). Это отчасти противоречит сказанному ранее, но лишь благодаря этой вставке книга попала в библейский канон. Между тем Екклесиаст стоит перед намного более трагической дилеммой, делая в ней благородный выбор: хотя воздаяния нет, все равно нужно сохранить человеческое лицо и вести себя в этой жизни достойно.
Безусловно, скептицизм Екклесиаста никогда не был в полной мере воспринят иудейской традицией. (Хотя в нашу секулярную эпоху к нему все чаще обращаются как к предтече еврейские, да и не только еврейские, мыслители рационалистически-материалистического толка.) И тот же эллинизм давал в Израиле пищу не только скептикам, но и мистикам. Скажем, мистика Каббалы формировалась под прямым и косвенным влиянием платонизма. Из эллинистической же культуры проникло в иудаизм учение о перевоплощениях (евр. «гилгул», то есть «круговорот» (душ). Произошло это, впрочем, далеко не в одночасье. Первые законоучителя и мистики, верившие в реинкарнацию, появились в иудаизме еще во времена Второго Храма. Однако такие взгляды были маргинальными и в текстах того времени встречаются крайне редко, большей частью в форме намеков. В Талмуде и мидрашах (аллегорических комментариях на библейские тексты) намеки проступают все чаще и явственнее. Но лишь в XI веке мусульманский автор аль-Багдади констатирует, что вера в перевоплощения среди евреев распространена. По его словам, еврейские мистики толковали в этом ключе, например, предсказания о превращении царя Навуходоносора в различных животных (см. Дан 5:21). Первым известным нам мистическим трактатом, рассматривавшим реинкарнацию, был «Сефер га-Багир» («Книга ясности», конец XII века). Далее, так сказать, шлюзы открылись, и концепция гилгула стала очень популярной. Вполне возможно, что этим тенденциям поспособствовали контакты европейских каббалистов с катарами. Вооружась новой концепцией, каббалисты стали читать всю Библию в свете гилгула, что открыло новые и неожиданные возможности. Скажем, Книга Иова, делающая упор на непостижимости для человека причины своих страданий — автор ее убежден, что рациональная теодицея невозможна, но проблема преодолевается через личную встречу с Богом, — была истолкована опять же в свете перевоплощений. Оказывается, Иов страдал за грехи, совершенные в прошлых жизнях, что ему и объяснил Создатель («…ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико». Иов 38:21). Впоследствии мистики разработали целый ряд сложных концепций того, что происходит с душой и как определить прошлые воплощения. Вопреки протестам ряда более скептических раввинов, концепция гилгула вошла в мейнстрим ортодоксального иудаизма и очень важна, например, для хасидизма. (Впрочем, в иудейском плюрализме она не считается обязательной, и многие ортодоксы, не говоря уже о последователях других направлений иудаизма, ее отвергают.)
Пути развития идей подчас неисповедимы и непредсказуемы! Перевоплощения — учение индийское, некогда занесенное в Грецию. Апокалиптическое воскресение — учение зороастрийское. И вот многие лучшие умы иудаизма, соединяя эти, казалось бы, взаимоисключающие теории человеческой судьбы, породили по-своему уникальную концепцию того, как душа, взрослея, идет к своему окончательному воскресшему телу…
Многие христиане, да и не только христиане, полагают, что заповедь любви к ближнему впервые дал Иисус. Иисус действительно учил любви к ближнему (Мк 12:28–31), но в этом, а также в понимании этой любви он исходил из традиционного учения иудаизма.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: