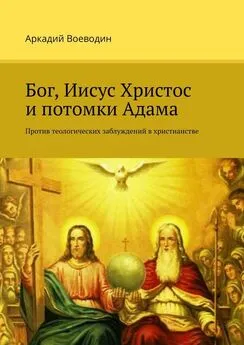Михаил Кубланов - Иисус Христос — бог, человек, миф?
- Название:Иисус Христос — бог, человек, миф?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1964
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Кубланов - Иисус Христос — бог, человек, миф? краткое содержание
Читатель с интересом прочитает главы, раскрывающие идеи века — ведущие социальные и нравственные идеи, которые христианство, преломив сквозь призму религиозной фантазии, обернуло божественным откровением. Его внимание привлечет рассказ и о религиозных исканиях эпохи, и о проявлениях скептицизма и вольнодумства по отношению к религии. Его не оставит равнодушным и проблема «Христа» до Христа — проблема земных корней христианства, происхождения его образов, сказаний, обрядности.
В книге приводятся некоторые данные и о новейших открытиях и исследованиях, например об открытиях в районе Мертвого моря, находках ранних папирусных списков некоторых новозаветных произведений, открытии в районе Верхнего Египта запрещенных церковью евангелий, посланий, деяний.
Незнакомые читателю слова и понятия объясняются автором в приложенном к книге «Аннотированном словаре имен, названий и терминов». Приведенные в книге иллюстрации в ряде случаев публикуются впервые в советской литературе.
Иисус Христос — бог, человек, миф? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Конечно, автор Апокалипсиса, вероятно выходец из Иудеи, с высот своего времени не мог охватить картины римского общества в целом. Но и то, что ему подсказывал ограниченный собственный опыт, возбуждало в нем гнев и вместе с тем чувство бессилия, что отложилось на самом его произведении: обличая «великую блудницу»— рабовладельческий Рим, пророча ему гибель и страстно желая его гибели, автор Апокалипсиса, однако, перелагает осуществление этого пожелания на небесные силы. Общество, погрязшее в неразрешимых социальных противоречиях, растратившее свои силы в бессильной борьбе с «нивелирующим рубанком» римской государственной машины, разуверившееся в возможности установления человеческими средствами мира социальной справедливости на земле, обращало свои взоры к небу, к божественному спасителю. Социально-экономические и политические условия эпохи породили потребность в чудесном избавителе — мессии. Они же выработали и его учение. Потребности и идеи века, проецируемые религиозной фантазией на небо, возвращались обратно в виде божественных установлений. А старые «языческие» боги и разнообразные религиозные течения эпохи, взаимодействуя и друг с другом и с новыми движениями, давали тот субстрат, то «костное» вещество, из которого строился скелет формирующейся новой религии.
Глава четвертая. Идеи века
Среди чрезвычайно интересных поговорок и пословиц, ходивших в римском обществе в эпоху формирования христианства, привлекают своей контрастностью две сентенции. Одна из них выражает точку зрения высших слоев. Она гласит: «Сколько рабов — столько врагов». Другая, по-видимому, сложилась на другом социальном полюсе. Мысль, заключенная в ней, сводится к тому, что «не может быть дружбы между рабом и господином». [53] Здесь и далее мы пользуемся огромным фактическим материалом, собранным и обработанным Е. М. Штаерман в ее книге «Мораль и религия угнетенных классов Римской империи» (М., 1961).
Так эти два миниатюрных творения народной мудрости вводят нас в круг ведущих проблем эпохи.
Проблема рабства в первые века империи несомненно является центральной. Не говоря уже об экономическом аспекте (рабский труд в производстве становится все менее рентабельным), рабовладельческий Рим все более страшится своих рабов, несмотря на рост государственно-чиновничьей машины. Тацит сообщает, что при Нероне «для возмездия и общей безопасности» состоялось сенатское определение, по которому в случае убийства господина казни подвергаются не только все его рабы, но и те, которые в этот момент находились с ним под одной кровлей, хотя по духовному завещанию были уже отпущены на волю [54] Тацит. Анналы, XIII, 32.
. Приведенная выше речь Гая Кассия по поводу убийства римского префекта выражает ту мысль, что невозможно жить среди многочисленных рабов, если не держать их в страхе.
Все это побуждает общественную мысль эпохи избрать этот предмет объектом своих исканий. Известный философ-стоик Сенека, блестящий придворный, идеолог рабовладельческих верхов общества, к которым он принадлежал и сам, видит выход из антагонизма между верхами и низами в смягчении правовых норм рабовладения. Высказываемые им идеи казались необычными для тех общественных групп, к которым он принадлежал. «Все люди, — говорил он, — одинаковы по существу, все одинаковы по рождению, знатнее тот, кто честен по природе. У всех нас общий родитель — мир: к нему восходит род каждого из нас, прошел ли он по блестящим или грязным ступеням общественной лестницы. Природа велит нам приносить пользу всем людям — все равно, рабы они или свободные, свободнорожденные или вольноотпущенники, получена ли свобода официальным путем, или она дарована в кругу друзей» [55] Сенека. О блаженной жизни, 24.
. В другом месте он говорит, что раб и по природе равен другим людям. В нем заложены те же чувства человеческого достоинства, мужества.
Как бы ни возвышались эти идеи Сенеки над уровнем идеологии верхов общества, по-прежнему видевших в рабе лишь орудие, наделенное голосом, они не означали, однако, что их автор стоит за отмену рабства. В ряде других мест он высказывается и за наказание рабов, и за суровые меры по отношению к ним, но в пределах благоразумия. Следуя своему идеалу мудреца, в котором справедливость, благочестие, простота должны быть пронизаны и увенчаны житейским благоразумием, он доказывает, что неразумно озлоблять рабов и превращать их в своих врагов.
Его слова как бы направлены сразу в два адреса. Во-первых, он зовет господ к более мягкому обращению со своими подневольными и вообще с зависимыми людьми. Не следует, проповедует он, чрезмерно унижать раба-пленника: он ведь недавно был свободным. Пусть господин не видит в рабе только безвольное орудие его прихотей: ведь раб — человек. Пусть он дарит ему снисходительное общение, не брезгует сесть с ним за обеденный стол, как это делали в старину. Такие рабы не будут ненавидеть своих господ, угрожать их жизни, делать на них доносы. А в случае допроса по чужому навету такие обласканные рабы будут молчать и под пыткой. Кроме того, судьба переменчива, и сегодняшний спесивец может при известных обстоятельствах и сам оказаться в зависимости от своего же прежнего раба. И заранее отвечая на угадываемые им возражения людей своего круга, Сенека говорит им, что рабство духа порой более присуще господам, чем рабам. Этот богач — раб корысти, этот — раб любовницы, этот — раб льстивого пресмыкания перед сильными мира сего, а этот — раб развращенной похоти… Придворный императора Нерона хорошо знал высший свет своего времени!
Вместе с тем Сенека призывает тех, кто находится в зависимости и рабском положении, проявлять терпение и покорно сносить оскорбления и обиды. Только покорность и терпение могут облегчить участь рабов и зависимых лиц. Возмущение же только усугубит тяжесть их положения. Обращаясь, видимо, и к господам и к рабам, он говорит, что только тело раба находится в рабском состоянии, душа же его свободна. А это залог того, что и раб может усовершенствоваться в добродетели и достичь в этом отношении равенства с именитым свободным.
Эти идеи, родившись в середине I в. н. э., лишь постепенно становятся в дальнейшем идеями века; только в следующем столетии некоторые идеологи римского рабовладельческого общества начинают их развивать и пропагандировать.
Другая злободневная тема — отношение к труду. Высшие классы рабовладельческого общества устами своих идеологов выражают презрение к физическому труду и его носителям, не только рабам, но и свободным. Шерстобиты, сукновалы, сапожники, медники являются объектом высокомерного пренебрежения. Их невежество, легковерие, готовность следовать за любым шарлатаном воспринимаются как следствие их занятий низменным, отупляющим трудом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: