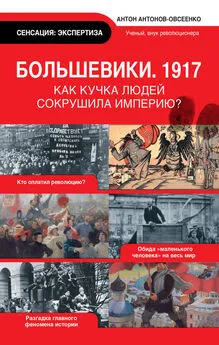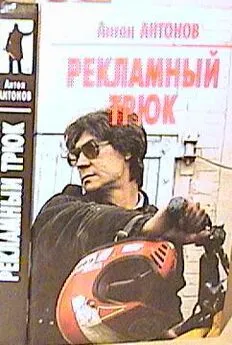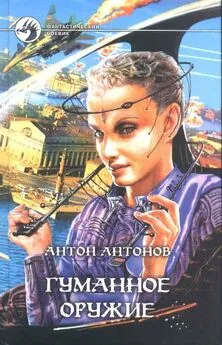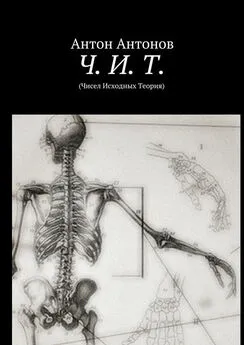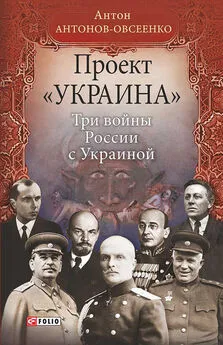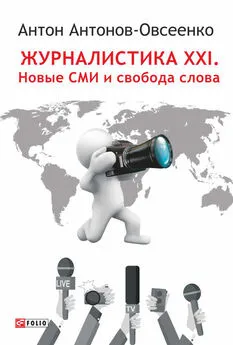Антон Антонов-Овсеенко - Большевики, 1917
- Название:Большевики, 1917
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-085307-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антон Антонов-Овсеенко - Большевики, 1917 краткое содержание
Большевики, 1917 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Другой важной частью столыпинской аграрной реформы стало массовое переселение крестьян на свободные земли — в Сибирь, а также на Дальний Восток, в Среднюю Азию и на Северный Кавказ. Переселение это было сугубо добровольным, причём в этом случае землю передавали вообще без какого-либо выкупа. Знаменитые «столыпинские» вагоны с заботливо выделенными секциями для перевозимого из Центральной России крестьянского скота, как и услуги землемеров на местах (пусть их не всегда и хватало), а также устройство за счёт государства школ и врачебных приёмных на местах стимулировали переезд. Вот, казалось бы, и решение пресловутого «крестьянского вопроса» — такое, о котором мог бы мечтать любой, самым решительным образом настроенный социал-демократ. Но вся столыпинская аграрная реформа продвигалась со «скрипом»: многие из уехавших от родных мест в поисках «земли обетованной» крестьян возвращались, потеряв то не многое, что у них было до отъезда, голодные и озлобленные. Помимо объективных причин главную негативную роль в этом играло отсутствие моральной поддержки реформ в крестьянской массе: всё, что исходило от царского правительства, для натерпевшихся за века от феодального произвола самих крестьян и тем более для тех, кто пытался их возглавить в стане левых партий, в особенности для большевиков и их союзников эсеров, представлялось неприемлемым, и было лишь новым «завуалированным закабалением» крестьянства.
Столыпин тем не менее упорно искал решения многочисленным накопившимся проблемам: развивал земское самоуправление, подготовил целый пакет законопроектов, касавшихся урегулирования взаимоотношений между городскими пролетариями, хозяевами производства и государством. Законы эти предусматривали страхование от несчастных случаев, регулировали продолжительность рабочего времени и прочее. Но по тем же причинам, по которым не заладилась аграрная реформа, и ввиду общей неразвитости отношений между трудом и капиталом, отставания России в этом вопросе от промышленно развитых европейских стран компромиссы в этих аспектах, к вящей радости революционеров всех мастей, также фактически не были найдены.
Тем не менее начало решению проблем в обществе было положено, и другие вопросы, в том числе национальный, также не оставались вне поля зрения энергичного премьера Столыпина: он вплоть до своей смерти от руки убийцы в 1911 г. выступал за создание отдельного министерства по делам национальностей. Такое министерство в первом большевистском правительстве возглавил, как известно, Иосиф Сталин (Джугашвили), который весьма своеобразно решал эту серьёзнейшую, накопленную за столетия самодержавия проблему: целые народности физически переселялись со своих исконных земель в глухие места новой, советской империи — в том числе в отделениях для скота в тех самых, «столыпинских» вагонах, а национализированную, отобранную у работящих «кулаков» землю раздали — к радости многочисленной ленивой прослойки — в общинное колхозное владение (как раз то, от чего пытался всеми силами избавиться Столыпин), десятилетиями затем тормозившее производство на селе.
Историческая фигура Петра Столыпина многогранна и противоречива и во всяком случае не может выглядеть, как это хотелось бы представить тем, для кого привычкой стало обожествление исторических личностей, однозначно положительной. Наведение «порядка» военно-полевым способом, по-столыпински, загнало революционную активность в такое подполье, в котором оно, формируясь в новых условиях, готовило выступления куда более опасные, чем до того. Таким образом Пётр Столыпин, сам того не ведая, фактически сыграл «историческую» роль в становлении и укреплении большевизма.
Но главное, что угрожало общественному спокойствию даже и безо всякой революционной деятельности, — это иногда затухавший, но всегда разраставшийся с новой силой на разных территориях огромной империи голод. На той самой Пражской конференции РСДРП в январе 1912 г. среди прочего обсуждался и вопрос об отношении социал-демократии к этому явлению. Безусловно, для большевиков и всех других партий из левой части политического спектра именно голод оставался одним из главных аргументов в идеологическом споре с самодержавием. Последствия половинчатости реформы 1861 г., систематические недороды провоцировали вспышки смертности по всей империи как во второй половине XIX., так и в начале XX в. Строго говоря, голод не прекращался в эпоху самодержавия никогда, обращая на себя внимание тогда, когда гибель людей становилась особенно массовой. Только в 1901–1912 гг., по разным оценкам, в России от голода погибли около 8 млн. человек. И в этих-то условиях, когда хлеба катастрофически не доставало для удовлетворения внутренних потребностей страны, Россия активно вывозила его на продажу за рубеж: получая в оплату этих поставок валюту, правительство таким образом укрепляло введённый под руководством министра финансов С. Ю. Витте ещё в 1897 г. так называемый «золотой стандарт» рубля. Весьма похвальное устремление, если не учитывать миллионов умерших от голода. Начало этой людоедской политике положил предшественник Витте на посту министра финансов Иван Вышнеградский, которому приписывают произнесённую по этому поводу фразу: «Не доедим, но вывезем!». Однако не доедали и погибали в Российской империи крестьяне и рабочие, а не министры царского правительства.
Ввиду всех этих факторов никакие самые, что называется, благие пожелания премьера Столыпина не могли ни изменить общего положения дел в стране, ни отношения к нему самому как к политической фигуре, нёсшей ответственность за все тяготы жизни народа. Настроения в российском обществе начала ХХ в. были таковы, что любой премьер, остававшийся верным монархии, даже если и предпринимал усилия в сторону демократизации, заведомо был бы злейшим врагом с точки зрения революционеров. Тем более такой премьер, который обеспечивал, причём не всегда безуспешно, относительный порядок и спокойствие в обществе с помощью военно-полевых судов.
До 1911 г. на Петра Столыпина было совершено десять неудавшихся покушений — вплоть до момента, пока очередное, одиннадцатое по счёту, не принесло свои «плоды». Маховик противостояния с царизмом, однажды, в январе 1905 г., запущенный самим царизмом в Петербурге, уже невозможно было остановить — даже и с учётом отъезда за рубеж главных организаторов политического террора. Для «решительных действий» находились и одиночки, ответственность за преступления которых не брала на себя ни одна партия. Так произошло с поверенным Дмитрием Богровым, совершившим покушение на премьера Столыпина 1 сентября 1911 г. в Киеве. Газеты очень по-разному оценили это событие. Демонстрировавшая лояльность в отношении правительства газета «Московские ведомости», — каковая лояльность проявлялась ею в том числе в сугубо националистических высказываниях, — акцентировала внимание читателей на этнической принадлежности убийцы. В номере от 3 сентября 1911 г. эта газета высказалась по поводу покушения на Столыпина следующим образом: «Среди разгара радостных торжеств Киева [20] По случаю открытия памятника Александру II. — А. А.-О .
совершилось злодеяние, которое вызывает ужас и негодование всей России. Выстрелами убийцы, какого-то ничтожного адвоката из евреев Багрова тяжело ранен председатель Совета министров Пётр Аркадьевич Столыпин» (выделено мной. — А. А.-О. ). Далее эта старейшая газета России, созданная усилиями М. В. Ломоносова ещё в 1755 г., справедливо замечает по адресу Столыпина, что «его политику могли критиковать и справа, и слева, но никто не мог отрицать, что он настойчиво и неуклонно развивал в России не что иное, как свободные учреждения, которые старался соединить с монархическим началом… Каждый мог критиковать ту или иную сторону его проектов, но нет человека, который бы не мог видеть в П. А. Столыпине искреннего поборника прав и благосостояния всех классов русского народа». «Только евреи, — делает далее неожиданное заявление газета, — которых эксплуатацию он хотел сколько-нибудь парализовать, конечно, могли на него озлобиться» (за что же, если Столыпин хотел «парализовать», то есть устранить их эксплуатацию?!). Через несколько дней, 5 сентября 1911 г., Столыпин умер от ран.
Интервал:
Закладка: