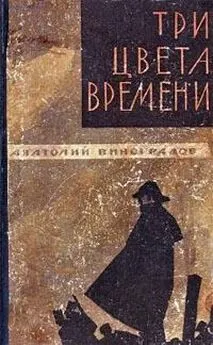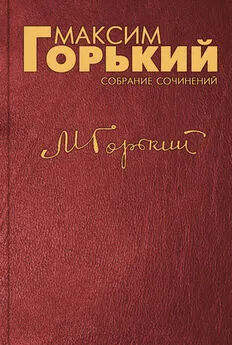Анджей Иконников-Галицкий - Три цвета знамени. Генералы и комиссары. 1914–1921
- Название:Три цвета знамени. Генералы и комиссары. 1914–1921
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аттикус»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-08510-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анджей Иконников-Галицкий - Три цвета знамени. Генералы и комиссары. 1914–1921 краткое содержание
Три цвета знамени. Генералы и комиссары. 1914–1921 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Необходимо выбирать. И как трудно это сделать!
Для многих генералов и старших офицеров выбор – на чьей стороне быть в русской смуте – определялся не идейными принципами, а личными мотивами, зачастую случайными, основанными на человеческих симпатиях и антипатиях, инстинктивном приятии своих и неприятии чужих. Немалую роль могли играть родственные связи, знакомства, прежние служебные отношения. Зерно, из которого выросла Добровольческая армия, – сообщество генералов и офицеров, сблизившихся во время «быховского сидения». К ним невольно тянулись бывшие сослуживцы и подчиненные, не ведавшие, к какому берегу пристать в бушующей вокруг буре.
Мы не знаем, что думал и как собирался жить дальше Владимир Зенонович Май-Маевский в те долгие и трудные месяцы, которые прошли от Октябрьской революции до его вступления в Добровольческую армию. Он был одинок, он был немолод. Сумбурным и непонятным Советам он, во всяком случае, не имел желания служить. В конце концов он просто пошел к своим.
Когда это произошло? Как ни странно, однозначного ответа на этот вопрос нет. Казалось бы, генерал – не иголка; однако нет ясных и надежных сведений о присутствии Май-Маевского в белых формированиях до осени 1918 года. Там, где нет определенных фактов, появляются легенды. Бытует легенда, что Май-Маевский пробрался в марте 1918 года на Дон и был принят рядовым солдатом в отряд полковника Дроздовского, пробивавшийся из Румынии на Кубань (впоследствии отряд вырос в 3-ю дивизию Добровольческой армии). Этого, конечно, не было и быть не могло. Все-таки генерал, бывший командующий гвардейским корпусом! Уж хоть полк ему бы дали. Да и трудно представить себе нездорового, тучного, одышливого Владимира Зеноновича в качестве участника труднейшего Ледяного похода Добровольческой армии или многоверстных маршей дроздовцев. Но, во всяком случае, пятьдесят второй год своей жизни он начал в составе белых войск.
В ноябре 1918 года, после ранения Дроздовского, приказом главнокомандующего Деникина Май-Маевский был назначен временно начальником 3-й дивизии. В январе 1919 года Дроздовский умер от пустяковой, как вначале казалось, раны, и Май-Маевский унаследовал его дивизию, одно из лучших соединений белых войск. В это время развернулось сражение за Донецкий угольный район. Главнокомандующий Вооруженными силами Юга России Деникин назначил Май-Маевского командиром 2-го корпуса, воевавшего с превосходящими силами красных между Ростовом и Горловкой. Весь февраль и март красные и белые, казаки и махновцы метались по донецким степям. Города по нескольку раз переходили из рук в руки. 9 марта 1919 года Деникин подписал приказ о производстве Май-Маевского в генерал-лейтенанты. В апреле части 2-го корпуса взяли Горловку, повели наступление на Юзовку и Мариуполь. В начале мая весь Донецкий район оказался в руках белых. 22 мая Деникин назначил «генерала Мая» командующим Добровольческой армией, главной ударной силой белых в готовящемся наступлении на Москву.
В воспоминаниях многих участников Белого движения о Май-Маевском ощущается некоторый холодок. Отчасти это объясняется тем, что он поздно вступил в их ряды, «пришел на готовенькое». Иные и вовсе молчат о нем. Так, например, не упоминает его имени дроздовец Антон Васильевич Туркул в своей книге «Дроздовцы в огне», хотя именно его полк и дивизия наступали на острие армии Мая. В эмигрантской мемуаристике сложилась традиция: о Май-Маевском либо молчать, либо вспоминать с оттенком горького сожаления, как о падшем ангеле, увлекшем многих своим падением. Именно из этих мемуаров почерпнуты общеизвестные сведения о запойном пьянстве Май-Маевского. Между тем никто и никогда не привел ни одного факта, свидетельствующего о том, что Владимир Зенонович в качестве командующего принимал решения (или, наоборот, не мог принять нужных решений) под влиянием проклятого вина.
Война шла такая, в которой трудно было сохранить душевное равновесие. Свои истребляли своих с бессмысленным, неостановимым остервенением. А была ли надежда на победу?
Из воспоминаний Туркула:
«В Тихорецкой 1-й солдатский батальон опрокинул красных, переколол всех, кто сопротивлялся. Солдаты батальона сами расстреляли захваченных ими комиссаров».
«Снег заносил сугробами наших мертвецов».
«Все знали, что в плен нас не берут, что нам нет пощады. В плену нас расстреливали поголовно. Если мы не успевали нести раненых, они пристреливали себя сами».
«Безмолвной, страшной была ночная атака 4-й на красных в деревне под самым Дмитриевом. Они перекололи всех, они не привели ни одного пленного».
«Среди тел, покрытых инеем и заледеневшей кровью, мы едва отыскали Димитраша. Он был исколот штыками, истерзан. Я узнал его тело только по обледеневшим рыжеватым усам и подбородку. Верхняя часть головы до челюсти была сорвана. Мы так и не нашли ее в темном поле, где курилась метель».
«Толпа уже ходила ходуном вокруг кучки пленных… Их били палками, зонтиками, на них плевали, женщины кидались на них, царапали им лица… С жадной яростью толпа кричала нам, чтобы мы прикончили матросню на месте, что мы не смеем уводить их, зверей, чекистов, мучителей. Какой-то старик тряс мне руки с рыданием:
– Куда вы их ведете, расстреливайте на месте, как они расстреляли моего сына, дочь! Они не солдаты, они палачи!..
…Их расстреляли».
«…Из опросов пленных, мы отыскали… кривоногого краскома, мальчишку-коммуниста. Краскома расстреляли».
«У насыпи едва освещало огнем подкорченные руки убитых. Уже нельзя было узнать в темноте, кто красный, кто белый. Бронепоезда догорали, снаряды продолжали рваться всю ночь» [187].
Надежда не покидала фанатиков Белого дела, таких как Туркул, готовых ради торжества высшей касты, к каковой причисляли себя, искрошить половину собственного народа, гордящихся количеством убитых и расстрелянных по их приказу большевиков.
Надежду долго хранили слуги совести и долга: Деникин, Врангель, Махров. Они знали, что за ними люди, десятки, сотни тысяч людей, что они не имеют права на слабость – и, следовательно, на правду.
Надежда раньше всего оставила людей мыслящих, умеющих смотреть правде в глаза, таких как Роман Гуль. Они понимали, что эшелон истории уходит в другом направлении и никто не в силах его остановить.
Генерал Май не был ни фанатиком, ни вождем, ни отчаявшимся интеллигентом. Он был военным. Он понимал, что у белых армий нет тыла, нет резервов, нет единства действий. Белые могли победить только при условии всенародной поддержки. Но народ России в массе своей не встал на сторону белых.
Генерал Май пил, конечно; может быть, пил слишком. Но ума не пропивал, это точно. За обвинениями в пьянстве, особенно со стороны Деникина, виднеется стремление задним числом найти объяснение той катастрофе, которая постигла белые армии в ноябре – декабре 1919 года. Списать все на Мая: запил, мол, не удержался и не удержал фронт. Но катастрофе предшествовало ошеломляюще успешное наступление Добровольческой армии, которой командовал тот же Май-Маевский. 25 июня после пятидневных боев был взят Харьков. 27 июля части Добровольческой армии вошли в Полтаву. В августе были взяты Одесса и Киев, в сентябре – Курск и Воронеж, 13 октября – Орел. В Москве царила паника: одни с тайной радостью готовились встречать белых, другие собирались бежать на север, в Вологду и Пермь, вслед за красными…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: