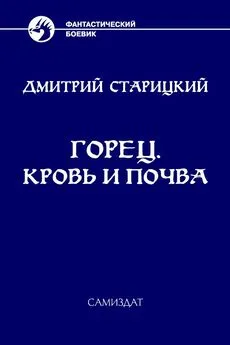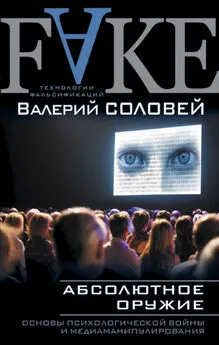Валерий Соловей - Кровь и почва русской истории
- Название:Кровь и почва русской истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Соловей - Кровь и почва русской истории краткое содержание
Кровь и почва русской истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Идеологи и защитники второго пути – русские националисты - более трезво оценивали возможности имперской экспансии и пределы русификации. Известный и влиятельный дореволюционный публицист, националист биологизаторского толка Михаил Меньшиков даже предлагал отказаться от тех инородческих окраин, которые невозможно обрусить. Правда, реализм по части русификации сочетался с радикальным утопизмом другого программного принципа, а именно – подчеркнутым этнократизмом. Руководящую роль русского народа предполагалось закрепить и обеспечить предоставлением ему политических и экономических преимуществ – такой, в частности, была программа «черной сотни». Исторический смысл этой стратегии заключался в превращении русских в подлинном смысле слова народ-метрополию и трансформации континентальной Российской империи в де-факто колониальную. И здесь неизбежно встает тот же вопрос, что и в отношении либерального проекта превращения России в национальное государство: а возможно ли это было в принципе?
Ответ здесь может быть только отрицательным. Дело даже не в том, что русские этнические преференции с неизбежностью спровоцировали бы возмущение нерусских народов. Главное, что эта идея подрывала такие имперские устои, как полиэтничный характер правящей элиты и эксплуатация русских этнических ресурсов. Континентальная полития могла существовать, только питаясь русскими соками, русской витальной силой и потому даже равноправие (не говоря уже о преференциях) русских с другими народами исключалось. Говоря без обиняков, русское неравноправие составляло базовую предпосылку существования и развития континентальной империи.
В общем, приемлемого решения главного противоречия России – противоречия между империей и русским народом – попросту не существовало. Это особенно хорошо заметно, если внимательно присмотреться к «черной сотне», а в более широком смысле – к любому русскому национализму имперского толка, то есть такому, который хотел бы добиться доминирующего (или хотя бы равноправного) положения русского народа в государстве и одновременно сохранить империю.
Такой русский национализм выглядит парадоксально. С одной стороны, ратуя за сохранение и укрепление государственного тела, манифестируя себя хранителем законности и порядка, он обречен на репутацию консервативной и даже реакционнной силы. С другой стороны, этот же национализм бросает радикальный вызов основам континентальной империи: полиэтничному характеру ее элиты и эксплуатации русских этнических ресурсов как главному источнику имперского могущества. На самом деле подобный национализм оказывается вовсе не консервативным, а подрывным и даже революционным, ведь он предлагает, - ни много, ни мало – изменить фундаментальные основы существующего порядка.
Сам факт появления национализма, требовавшего для русских преференций, отражал серьезное неблагополучие русского национального тела. Русские националисты начала XX в. почувствовали (то было именно интуитивное ощущение, а не рефлексия), что предел силы русского народа близок к исчерпанию. В этом смысле они оказались историческими провидцами, хотя предлагавшиеся ими рецепты лечения болезни выглядели не менее смертоносными, чем сама болезнь. Ведь магистральная идея «черной сотни» о наделении «русской народности» (восточных славян) преимущественными правами с целью укрепления имперского единства (современным научным языком ее можно определить как стремление национализации политии), объективно несла не менее разрушительный по своим последствиям заряд, чем программы леворадикальных политических сил.
Таким образом, к началу XX в. Российская империя была загнана в историческую ловушку. Старый путь развития исчерпал себя. Но и никакая последовательно демократическая модель не имела шансов реализоваться; более того, включение демократических и либеральных элементов в имперскую политию распаляло политические аппетиты и провоцировало революцию ожиданий. Политическая стабильность и территориальная целостность империи или свобода и демократия без империи – таков был реальный, а не иллюзорный выбор российского либерализма. Не менее «дьявольскую альтернативу» нес русский национализм: русское национальное государство без империи или империя с сохраняющимся подавлением русских интересов.
Однако империя была разрушена силами, акцентировавшими социополитические, а не этнические факторы. Националистические движения периферийных народов не сыграли ровно никакой роли в падении самодержавия, национальный сепаратизм был не причиной, а следствием падения прежней центральной власти и драматической слабости власти новой, демократической[137].
Значит ли это, что русская этничность не имела важного значения в социополитической динамике начала XX в., что эта динамика определялась, прежде всего, внеэтническими факторами? Убежден, что эта устоявшаяся, канонизированная в историографии точка зрения нуждается, как минимум, в серьезной корректировке, если не в основательной ревизии.
Начну с указания на чрезвычайную важность биологической подоплеки Великой Русской революции начала XX в. Именно русский демографический рост послужил ее «мальтузианской» основой. Вкратце отмечу лишь некоторые из социальных и социокультурных последствий рекордной русской рождаемости. Во-первых, резкое обострение земельного голода в Европейской России. Переселение в Сибирь и на другие свободные земли не смогло решить этой проблемы, вызывавшей растущее социальное напряжение. Во-вторых, аграрное перенаселение, совпавшее со стремительные развитием железнодорожной сети в России, резко интенсифицировало миграционные процессы, создав новую ситуацию в селе и городе. Ее новизна, в частности, состояла в формировании больших групп городских и сельских маргиналов, накоплении модернизационных стрессов и психотизации общественной ситуации. В-третьих, значительный рост доли молодежи в стране в любом случае должен был иметь серьезное дестабилизирующее воздействие, ведь молодость, как известно, состояние психической и социальной неустойчивости. Между тем в конце XIX – начале XX вв. приблизительно половину населения европейской части России составляли люди в возрасте до 20 лет [138]. Для будущей революции горючего материала было в избытке.
Пережитое Россией фактическое удвоение населения в течение 75 лет было грузом, способным переломить хребет любой государственной системе. Российское самодержавие оказалось в положении Боливара из известного рассказа О’Генри…
В этом смысле весьма поучительно сравнение английской и русской ситуаций. Британцы пережили свой демографический бум в XIX в., когда население Британских островов увеличилось чуть ли в 3 раза. Причем в начале XIX в. 55 % британского населения было моложе 25 лет[139]. Но там избыток молодой энергии выплеснулся в создание и освоение величайшей в мире колониальной империи. К началу XX в. рождаемость в Британии значительно снизилась и демографическая ситуация стабилизировалась. Русские же и в начале XX в. оставались мировым рекордсменом по части естественного прироста населения. Но зато возможности экстенсивного развития были уже исчерпаны, империя прекратила распространяться вширь и могла развиваться только «вглубь».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



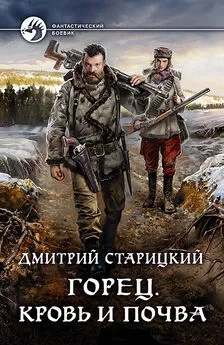
![Дмитрий Старицкий - Кровь и почва [СИ]](/books/1087136/dmitrij-starickij-krov-i-pochva-si.webp)