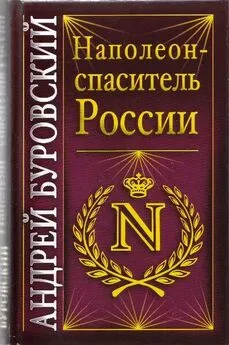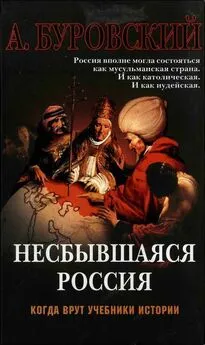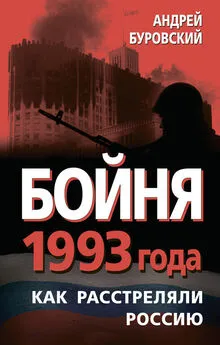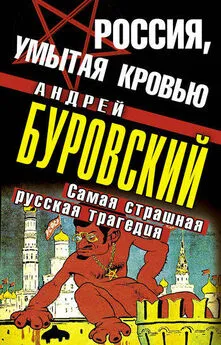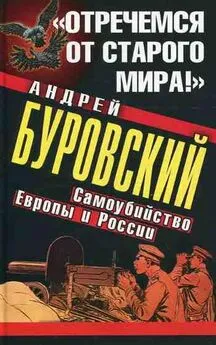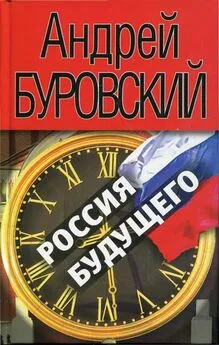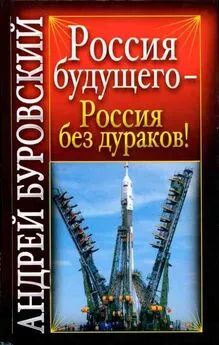Андрей Буровский - Наполеон - спаситель России
- Название:Наполеон - спаситель России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Яуза»,«Эксмо»
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-37218-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Буровский - Наполеон - спаситель России краткое содержание
Новая шокирующая книга самого «неуправляемого» и скандального современного историка не оставляет от этой официальной верти камня на камне, переворачивая наши представления о прошлом, убедительно доказывая, что, вопреки расхожим мифам, Наполеон был спасителем России!
Как? Почему? Читайте новый сенсационный бестселлер от главного «возмутителя спокойствия»!
Наполеон - спаситель России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Есть много таинственного в кампании 1812 года. Какая-то цепь несчастий обрушилась на Наполеона, какая-то особенная мера невезения. Но и собственные решения Наполеона, мягко говоря, не лучшие. Граф Лев Толстой высмеивает историков, которые объясняли поражение Под Бородином насморком Наполеона: якобы простудился и потому плохо, хуже обычного, командовал. Вот был бы здоров!!!
Но были решения намного более фатальные и важные, чем принимаемые в ходе любого, даже самого судьбоносного, сражения. Стоя в Вильно и в Витебске, он сначала дает и тут же отнимает волю у крестьян Великого княжества Литовского. Отнимает — хотя у крестьян Польши и Германии не отнимал. Тем более он не дает воли ВСЕМУ крестьянству Российской империи.
Много позднее, уже в своей последней ссылке на острове Св. Елены, Наполеон очень сокрушался, что не довел до конца свой план, выработанный накануне кампании 12-го года: замысел дать «волю» всем крепостным России. Своему лечащему врачу О 'Меара он в 1817 г. заявил: «Я провозгласил бы свободу всех крепостных в России и уничтожил бы крепостнические права и привилегии дворянства. Это создало бы мне массу приверженцев».
Несомненно! Обязательно создало бы. В апреле 1812 г. московские городовые занимались своеобразным делом: соскабливали со стен и ворот нескольких домов сделанную масляной краской надпись: «Вольность! Вольность! Скоро будет всем вольность!» Полиция проводит дознание и в конце концов арестовывает двух дворовых людей. Звали их Петр Иванов и Афанасий Медведев. Они начитались французских прокламаций и уверяли: «Скоро Москву возьмут французы... Скоро будут все вольные, а помещики же будут на жалованье...»
Стоило Наполеону издать «Манифест о воле», и таких энтузиастов было бы не 2 человека, а как бы не все 20 тысяч (впрочем, мы ведь не знаем, всех ли смутьянов взяла полиция. Могло быть и многолюдное подполье). Такой манифест поставил бы русский народ в еще более сложное положение, чем немцев, испанцев и итальянцев: между свободой и патриотизмом. Почему в «еще более сложное»? Потому что нигде крепостное право не было настолько жестоким и страшным. Потому что нигде больше народ не распадался на бородатых туземцев и бритых европейцев, которые сидели у туземцев на шее и мордовали их, как хотели.
Правительство и дворянство Российской империи больше всего боялось именно «воли». Наполеон был слишком хорошим психологом, слишком хитрым и проницательным человеком, чтобы этого не понимать.
Наполеон отлично понимал и то, что «воля» — самое большое, что он может дать русскому простонародью. Это то, что от него ждут больше всего. С таким же восторгом, с каким ужасом ждали дворяне.
Почему же Наполеон не издал Манифеста о воле? Кто мешал?
Уже в 1814 году, в Париже, он писал: «Я мог поднять большую часть населения, провозгласив свободу крепостных... Но когда я узнал, в какой грубости находится этот класс русского народа, я отказался от такой меры, которая обрекала столько семей [дворян, естественно, помещиков. — A.M.] на смерть и страдание».
В общем, сострадание к образованному классу, к русским европейцам, помешало ему провозгласить «Манифест о воле». Правда, что-то тут не состыковывается: например, сказанные Метгерниху слова: «Торжество будет уделом более терпеливого. Я открою кампанию переходом через Неман. Закончу я ее в Смоленске и Минске. Там я остановлюсь».
Коленкур в мемуарах вспоминает фразу Наполеона: «Он заговорил о русских вельможах, которые в случае войны боялись бы за свои дворцы и после крупного сражения принудили бы императора Александра подписать мир» [135] Коленкур А. Поход Наполеона в Россию. — М., 1994.
.
В общем, помещики испугаются, и после первого же поражения русской армии заставят Александра подписать мир. В общем, неясно это все. И представить себе Наполеона, который кому-то сострадает, очень трудно. Кроме того, ведь и угроза раскрепощения крестьян — прекрасный способ, чтобы помещики хорошенько испугались.
Есть несколько причин, по которым Наполеон мог отказаться от раскрепощения русских крестьян.
Первое — это угасание революционного порыва. Действительно, «генерал революции» — это прошлое. Наполеон уже давно маршал и император, но не революционер.
Он не в большей степени якобинец, чем король Швеции и Норвегии Карл XIV Юхан.
На Бородинском поле его же собственные генералы и маршалы смеялись, когда Наполеон приказал играть «Марсельезу» полковым оркестрам при 6-й и 7-й атаках Семеновских флешей. Ведь сам Наполеон, став в 1804 г. императором, запретил в армии этот революционный гимн. «Марсельезу» пели его враги: те, кто считал Наполеона «предателем революции». Например, генерал В. Моро и его сторонники уже идя на свой расстрел, пели «Марсельезу».
Для солдат же Нея и Даву звуки «Марсельезы» были или воспоминанием детства, или они их вообще никогда не слышали. «Марсельеза» на поле Бородина — это смешная и жалкая попытка уцепиться за собственное прошлое.
Бывший полуякобинец и бывший корсиканец Наполиони Бонапарте превратился во французского императора Наполеона. Освобождать и раскрепощать для него не более естественно, чем «Марсельеза». Это может быть частью политики, но и не более того.
Второе. Имея дело с верхушкой русского дворянства, Наполеон и другие политики и военные деятели Европы имели дело не просто с европейцами по цивилизационной принадлежности. Они имели дело с людьми, которые осознавали себя и вели себя как французские эмигранты в Россию.
Общеизвестно, что весь образованный слой России свободно владел по крайней мере французским и немецким языками. Граф Лев Николаевич Толстой не переводил французских и немецких речей и текстов: читатель, для которого предназначались книги, не мог не понимать этих языков.
Вопрос — а в какой степени свободно было владение языками? Ответ — как родными, то есть без акцента. Пьер Безухов пытается говорить французскому офицеру, что он не француз. И слышит вполне определенное:
— Расскажите вашей бабушке!
Даже если уважаемый читатель владеет каким-либо языком свободно, он вряд ли сможет выдать себя за немца в Германии или за француза во Франции. А Пьер Безухов делал это без труда.
Ладно, это литературный персонаж (хотя и отражающий историческую реальность). Но вот в 1813 году русский офицер Александр Фигнер проникает в осажденный русскими и прусскими войсками Данциг (современный польский Гданьск). Он выдает себя за сына итальянского купца Малагамба. Французы сильно подозревают в нем шпиона, сажают в крепость и всячески проверяют. Они даже зовут в качестве экспертов итальянцев, знающих Милан и семью Малагамба. Побеседовав по-итальянски с Фигнером, итальянские купцы торжественно заверяют французского коменданта: да, это молодой Малагамба! Он коренной итальянец, клянемся святой Евлалией, покровительницей Милана! Подозрения коменданта совершенно рассеяны, и он поручает «Малагамбе» отвезти его письмо Наполеону. Фигнер, естественно, доставляет его русскому командованию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: