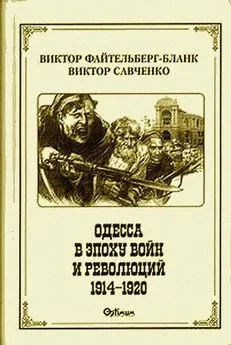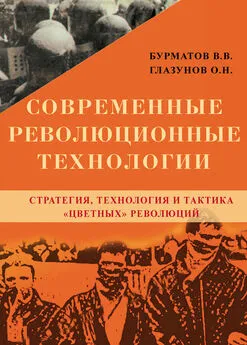Владимир Трут - Дорогой славы и утрат. Казачьи войска в период войн и революций
- Название:Дорогой славы и утрат. Казачьи войска в период войн и революций
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Яуза, Эксмо
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-21875-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Трут - Дорогой славы и утрат. Казачьи войска в период войн и революций краткое содержание
В книге на основе богатейшего фактического материала рассказывается об участии казаков всех казачьих войск России – от Дона, Кубани, Терека до Урала, Оренбуржья, Сибири и Дальнего Востока – в драматических событиях российской истории прошлого века.
Широко показаны этапы возникновения и развития казачьих войск страны, общее положение казачества в начале XX века, уникальная система казачьего самоуправления и управления казачьими войсками, участие казаков в боевых действиях в период Русско-японской войны 1904-1905 годов, событиях революции 1905-1907 годов, кровопролитных сражениях Первой мировой войны, в политических бурях Февральской и Октябрьской революций 1917 года, Гражданской войны. Привлеченные автором неизвестные архивные документы, красочные воспоминания участников описываемых событий, яркие газетные и журнальные зарисовки тех бурных лет, работы ведущих российских, в том числе и белоэмигрантских, и зарубежных историков позволили объективно и всесторонне осветить участие казаков страны в крупнейших военных и внутриполитических кризисах XX века, по-новому взглянуть на малоизученные и малоизвестные страницы российской и собственно казачьей истории.
Книга вызовет несомненный интерес у всех, кто интересуется историей казачества и России.
Дорогой славы и утрат. Казачьи войска в период войн и революций - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В собственно военном плане боевые действия велись в различных регионах страны и носили местный, локальный характер. Сплошная линия фронта отсутствовала, а вооруженные столкновения происходили в отдельных местах, удаленных друг от друга. Сами места боев носили, по свидетельствам военных специалистов, «...характер подвижных и передвигающихся районов» [31]. К тому же тогда в них участвовало довольно небольшое число сражающихся с обеих сторон, счет которых шел на сотни и отдельные тысячи. Ни одна из армий того времени от Терека до Амура не насчитывала в своем составе хотя бы нескольких десятков тысяч человек.
Малочисленность действующих сил, которыми располагали противники, их очевидная первоначальная неорганизованность, вынуждали вести военные операции небольшими мобильными конными отрядами или, как это делали в основном советские подразделения, вдоль линий железных дорог. Неслучайно начальный период Гражданской войны в военном плане получил название «эпохи эшелонной войны» [32]. Небольшое число бойцов и «эшелонный» характер действий создавали впечатление большой гибкости и подвижности, постоянного маневрирования. Как отмечал позже известный «красный военспец» Н.Е. Какурин, «армии» в несколько сот человек, разъезжая в эшелонах и быстро благодаря этому сосредотачиваясь на совершенно неожиданных направлениях, в несколько дней решают судьбу самых сложных и обширных операций» [33]. В такой ситуации первостепенное значение приобретало не столько общее количество войск, сколько их организованность, военная подготовка, быстрота и решительность действий, умелое маневрирование, хорошая мобильность, моральная стойкость и боевой дух. Неслучайно генерал П.Н. Краснов говорил о том, что «Гражданская война – не война. Ее правила иные, в ней решительность и натиск – все» [34].
Свой отпечаток на ход военных действий накладывало и отсутствие стратегических планов военных операций, а сами они носили разрозненный и локальный характер. Сказывались и совершенно иная, весьма своеобразная, тактика ведения боя, невозможность необходимой подготовки к зачастую неожиданным и скоротечным столкновениям, разведка и т.п. Да и общий накал борьбы, ее ожесточенность были еще не очень сильными. По замечанию М.П. Богаевского, в то время «...у обеих воюющих сторон проявлялось больше воинственного задора, нежели настоящих действий» [35]. В результате, по его словам, «действия с обеих сторон развивались медленно, неохотно, вяло» [36].
Наибольшую угрозу для СНК в рассматриваемый период представляли силы, находившиеся на территории Донской области [37]. Во второй половине декабря 1917 года здесь сложилась следующая обстановка. Наиболее многочисленными являлись прибывшие с фронта строевые и находившиеся в области запасные и иные регулярные казачьи части. Они располагались во всех основных населенных пунктах, а основная их часть была выдвинута на границы войска навстречу двигавшимся советским войскам в районы Каменской—Глубокой—Миллерово—Лихой и вдоль железной дороги Воронеж—Ростов [38]. Общая численность их была довольно значительной. Вследствие постоянного прибытия с фронта новых полков, а также самороспуска и ухода казаков многих подразделений по домам установить их точную численность очень сложно. В одном из своих донесений в СНК в это время Антонов-Овсеенко указывал, что «у Каледина 50 тысяч войск наполовину не враждебных нам» [39]. Но указанная цифра представляется завышенной даже с учетом численности самовольно разошедшихся казачьих полков. Оставшиеся казаки не хотели воевать и с настороженностью относились как к действиям атамана и офицеров, так и командования советских частей. В их среде сильно проявлялись пацифистские настроения и наблюдалось возраставшее стремление урегулировать все вопросы с советским правительством мирными путями.
В такой ситуации реальной боевой силой противников советской власти являлись немногочисленные формирования Добровольческой армии и донских партизан. В Добровольческой армии находились отличные офицерские кадры под командованием высших военачальников старой армии генералов Л.Г. Корнилова, М.В. Алексеева, А.И. Деникина. К концу 1917 года в ней насчитывалось до 2 тысяч человек [40], в основном офицеров. Во время одного из докладов генерала Черепова, просмотрев предоставленные списки новых добровольцев, генерал Корнилов воскликнул: «Это все офицеры, а где же солдаты? ... Офицер хорош на своем месте. Солдат дайте мне» [41]. Но рядовых солдат, за исключением определенных рядовыми добровольно записавшихся студентов и других штатских лиц, не было. Поэтому рядовыми с винтовками шли капитаны и поручики, а во главе рот стояли полковники. Добровольческая армия действовала самостоятельно и войсковой администрации не подчинялась.
В распоряжении войскового правительства непосредственно находились 16 добровольческих партизанских отрядов, которые возглавляли казачьи офицеры: есаул Бобров, есаул Боков, есаул Власов, войсковой старшина Гнилорыбов, кубанец сотник Греков, полковник Краснянский, подъесаул (позже – есаул) Лазарев, войсковой старшина Мартынов, хорунжий (позже – есаул) Назаров, подъесаул (позже – есаул) Попов, войсковой старшина (позже – полковник) Семилетов, есаул Слюсарев, сотник Хоперский, полковник Хорошилов, есаул (позже – полковник) Чернецов и есаул (позже – полковник) Яковлев [42]. Точные данные относительно их численности отсутствуют, а имеющиеся сведения противоречивы. Например, по данным воевавшего в Добровольческой армии Р. Гуля, отряды Чернецова, Семилетова и Грекова вместе взятые насчитывали едва ли 400 человек [43]. Некоторые белоэмигранты говорили, что в самых больших партизанских отрядах Чернецова и Семилетова не набралось бы и пятисот душ [44]. Авторы двухтомной «Гражданской войны в СССР» численность одного чернецовского отряда определили в полторы тысячи бойцов [45]. На самом же деле в этот отряд входило, по свидетельствам его членов, вначале всего 120 человек, а позже около 250 [46]. В остальных партизанских отрядах счет шел на десятки бойцов. Некоторые из них имели по 30–40 человек [47]. (В отряде Грекова было всего 30 чел., у Лазарева – 50 и т.д.) Их малочисленность в значительной мере компенсировалась большой мобильностью и внезапностью действий, высоким боевым настроем. Общая численность всех этих отрядов, также постоянно менявшаяся, составляла около 1,5 тыс. бойцов.
В распоряжении Антонова-Овсеенко к этому времени имелись следующие силы. В направлении Гомель—Бахмач находился отряд Берзина (1800 человек при 4 батареях). В районе Орла—Белгорода сосредоточился «Северный летучий отряд» Сиверса (1300 штыков, 200 сабель, 60 орудий, 14 пулеметов). В самом Белгороде находился не подчиненный Сиверсу отряд Ховрина численностью 300 человек. (В своем первом докладе в Совнарком 19 декабря 1917 года Антонов-Овсеенко сообщал, что отряд Ховрина окончательно деморализован реквизициями [48].) Кроме этого, в Смоленске формировалась «вторая колонна» Соловьева (более тысячи человек), а в резерве находились брянский и великолуцкий отряды (свыше 300 штыков), смоленская батарея и некоторые не совсем надежные части XVII армейского корпуса. Из Москвы двигался отряд Саблина (1900 человек, батарея, 8 пулеметов) [49]. Одновременно к Царицыну подтягивались полки 5-й Кавказской казачьей дивизии. Также планировалось прислать с фронта несколько латышских полков [50]. Таким образом, первоначальная численность советских войск не превышала 6–7 тысяч человек при 30–40 орудиях и нескольких десятках пулеметов [51]. Эта основная группа постоянно пополнялась силами местных формирований Красной гвардии и частями просоветски настроенных солдат гарнизонов городов, через которые по направлению к Донской области продвигались революционные отряды [52]. К концу декабря все советские силы, располагавшиеся в районах Луганска, Горловки, Никитовки, Родаково, Лиски, Чертково и других местах, составляли свыше 17,5 тысячи штыков и сабель, при четырех бронепоездах, четырех бронеавтомобилях, 48 орудиях и 40 пулеметах [53]. Они были сведены в три колонны, которыми командовали прапорщик Р.Ф. Сиверс, прапорщик Ю.В. Саблин и Г.К. Петров.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: