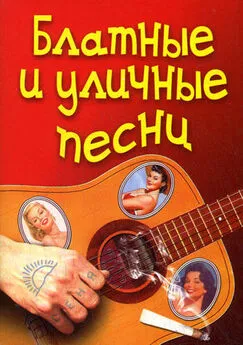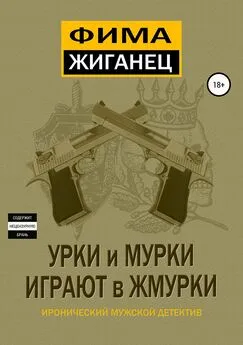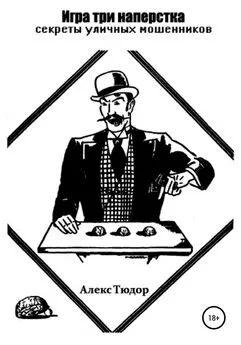Александр Сидоров - На Молдаванке музыка играет: Новые очерки о блатных и уличных песнях
- Название:На Молдаванке музыка играет: Новые очерки о блатных и уличных песнях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАИК
- Год:2012
- Город:М.:
- ISBN:978-5-91631-167-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - На Молдаванке музыка играет: Новые очерки о блатных и уличных песнях краткое содержание
На Молдаванке музыка играет: Новые очерки о блатных и уличных песнях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но эта система была способна гарантировать разве что скудный минимум существования. Рабочие получали в месяц 0,5–2 килограмма мяса или рыбы, 1 килограмм крупы, 400 граммов постного масла, 500 граммов сахара на всю семью. В столовой инженеру полагалось на обед 300 граммов хлеба, пролетарию — 200 граммов. И это — на крупнейших предприятиях! В Ивановской области рабочие неиндустриальных производств летом 1932 года вообще получали только сахар…
Даже иностранные рабочие — тысячи немцев, американцев, французов, англичан, бежавших от безработицы в «счастливую страну победившего пролетариата», — снабжались немногим лучше. Так, американцы, работавшие на карельских лесоразработках, получали в месяц по килограмму масла, сала, макарон, 2,5 килограмма сахара (зато три буханки хлеба в день). Правда, время от времени в их распределителе появлялись ветчина, сыр, копчёный лосось, орехи, ликер, сигареты, конфеты, фрукты. Советскому рабочему такое даже не снилось… По воспоминаниям американца Джэка Моррисея, который работал в Воронеже, его рацион состоял из омлета, чая и чёрного хлеба на завтрак, жареной в жиру конины, водянистого картофельного пюре, политого растительным маслом, и чая на ланч.
Не надо думать, что в Одессе дела обстояли лучше. Как раз она стала одной из первых, познавших на себе все «прелести» карточной системы наряду с другими украинскими городами. Горожане возмущались сложившейся ситуацией; на улицах Одессы в 1931 году даже появились листовки. В одной из них говорилось: «Всё существо поглощено лишь заботой что-либо достать, начиная от куска хлеба до одежды и от коробки папирос до сапог. На это тратишь всю силу: и свою, и семьи, а для души осталась лишь боязнь и трусость за будущий день».
Так значит, авторы песни про Кольку-Ширмача присочинили насчёт «фраеров», которых некому «щупать дерзкою рукой»? Не будем торопиться. Да, мы обрисовали положение подавляющего большинства граждан страны: рабоче-крестьянской массы, служащих, людей без определённых занятий («лишенцев»). Но определение «фраер» использовано в балладе о Беломорканале совершенно в ином значении!
Словечко «фраер» («фрайер») заимствовано уголовниками из немецкого языка через местечковый идиш в конце XIX — начале XX века. Мы помним, что именно тогда в криминальный мир России влилась мощная еврейская струя благодаря развитию Одессы как крупного торгового центра, где значительную часть составляли евреи. Немецкое «Freier» переводится как «жених». Первоначально проститутки и бандерши так называли своих клиентов, посетителей борделей. Позднее уркаганы стали звать «фраерами» потенциальных жертв — презентабельного вида, модно и стильно одетых людей. Отсюда и «прифраериться» — шикарно одеться.
Существовал также криминальный «промысел», где жертва тоже называлась «фраером». Мы говорим о так называемом «х ипесе» («хипеш», «хипиш»). Родился этот промысел в Одессе и заключался в следующем: молодая симпатичная женщина-«х ипесница» завлекала «фраера» на съёмную квартиру якобы для занятий любовью. В самый ответственный момент врывался разъярённый «муж». Дальше разыгрывался спектакль, целью которого было выпотрошить кошелёк простачка, будучи при этом уверенными, что он не обратится в полицию. Часто «хипесник» и «хипесница» действительно состояли в гражданском браке (на всякий случай)… «Хипес» происходит от еврейского «хипэ»: так на одесском идише назывался свадебный балдахин (на иврите — «хупа») или свадьба вообще. Во время еврейского обряда свадьбы под «хипэ» стояли жених с невестой.
Существовала даже забавная присказка: «Если фраер при цепочке, значит, фраер при “бок ах”». «Бока», «бочата» — так долгое время в уголовном мире России назывались часы. Присказка эта — переделка известной в своё время народной частушки про барина:
Если барин при цепочке,
Это значит — без часов.
Если барин при галошах,
Это значит — без сапог.
Смысл частушки, таким образом, противоположен уголовному, но связь присказок про барина и «фраера» очевидна. Можно вспомнить и другую уголовную поговорку, которая дожила до сего дня и перешла в разговорную речь: «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал» — то есть недолго длились счастливые деньки; всё хорошее быстро кончается.
Именно в этом смысле — «богатая жертва» — слово «фраер» употребляет неведомый автор блатной баллады. А потому нам и следует приглядеться: водились ли такие «богатенькие буратины» в Совдепии начала 30-х годов?
Согласно официальным постановлениям, тогда в стране самыми высокими считались нормы индустриальных рабочих и красноармейский паёк. Даже высшая партийно-советская номенклатура официально по нормам снабжения приравнивалась к «гегемону». Однако на деле всё обстояло совершенно иначе. Элита пользовалась такими привилегиями, которые были немыслимы для обыкновенного гражданина. Ей обеспечивалось лучшее в стране спецснабжение. Верховные лидеры (секретари ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ, председатели и их замы ЦИК СССР и России, СНК СССР и РСФСР, ВЦСПС, Центросоюза, Госплана СССР и РСФСР, Госбанка, наркомы и их замы союзных и российских наркоматов, советские дипломаты и ветераны революции, жившие в Москве) получали пайки литеры «А». Работники помельче из тех же учреждений получали пайки литеры «Б». Разумеется, подобного рода система привилегий существовала и на республиканском, и на областном уровне (хотя в несколько меньших масштабах).
Елена Боннэр в воспоминаниях «Дочки-матери» пишет о своих родителях-коммунистах, которые занимали высокие посты, но находились на разных ступенях иерархической лестницы (отчим — в Коминтерне, мать — Московском комитете партии): «Папин паёк — то ли два раза в месяц, то ли чаще — приносили домой. Я не знаю, платили ли за него. В нём было масло, сыр, конфеты, какие-то консервы. Кроме этого, постоянного пайка, были ещё большие предпраздничные. Там была икра, разные балычки, шоколад и тоже сыр и масло. За маминым пайком надо было ходить — недалеко, на Петровку… В нём тоже было масло и ещё что-то, но он был значительно проще папиного».
Мы можем уточнить содержимое «партийного» пайка на примере обитателей Дома правительства в Москве. В 1932 году он включал 4 кг мяса и 4 кг колбасы; 1,5 кг сливочного и 2 л растительного масла; 6 кг свежей рыбы и 2 кг сельди; по 3 кг сахара и муки (не считая печёного хлеба, которого полагалось 800 г в день); 3 кг различных круп; 8 банок консервов; 20 яиц; 2 кг сыра; 1 кг кетовой икры; 50 г чая; 1200 штук папирос; 2 куска мыла; а также 1 литр молока в день. В ассортимент входили также кондитерские изделия, овощи и фрукты.
Привилегии касались не только продуктов питания, но и всего остального. Номенклатура шила на заказ в специальных мастерских одежду и обувь; ордера и талоны на пошив выдавались тоже исходя из статуса «счастливца». По нормам и в порядке очереди можно было приобрести вещи в специальных распределителях или получить со склада в Кремле. В последнем случае одежда бывала конфискованной. Ничего, не брезговали и пиджаками с «вражьего плеча»…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: