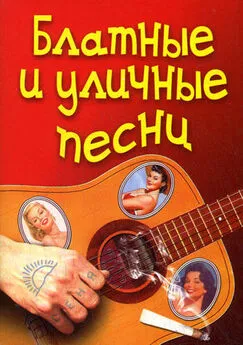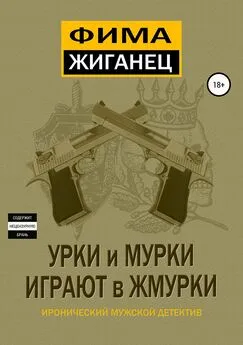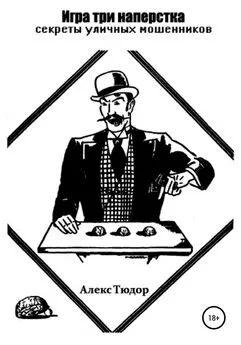Александр Сидоров - На Молдаванке музыка играет: Новые очерки о блатных и уличных песнях
- Название:На Молдаванке музыка играет: Новые очерки о блатных и уличных песнях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАИК
- Год:2012
- Город:М.:
- ISBN:978-5-91631-167-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - На Молдаванке музыка играет: Новые очерки о блатных и уличных песнях краткое содержание
На Молдаванке музыка играет: Новые очерки о блатных и уличных песнях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Разумеется, «ширмачи» «втыкали» не только в очередях за хлебом. Были ещё колхозные рынки, пришедшие на смену крестьянским, закрытым во время первой пятилетки. Уже в мае 1932 года (когда Колька вкалывал на Беломорканале) рынки и базары возрождаются правительственным указом: необходимо оживить поток продукции из деревни в город, который грозил совершенно иссякнуть. Поначалу вести торговлю разрешалось только крестьянам и сельским кустарям, но вскоре часть таких рынков превратилась и в «барахолки», где люди могли продать что-то из личных вещей. Государство смотрело на это сквозь пальцы. Борьба с «чуждыми элементами» породила огромную армию «лишенцев», то есть людей, лишённых всяких прав, в том числе права на работу, а те, кто не работали, не получали и продуктовых карточек и вынуждены были существовать, распродавая своё имущество.
Вне карточной системы действовали и торгсины — магазины Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами. Сеть специализированных торговых предприятий по обслуживанию иностранных граждан (Торгсин) открылась в СССР 5 июля 1931 года согласно постановлению, подписанному председателем Совнаркома В. М. Молотовым. Предполагалось, что здесь богатые дяди и тёти из стран «загнивающего капитализма» будут оставлять свою валюту, так нужную Республике Советов. В новых магазинах продавали всё, чего нельзя было купить в другом месте — от чёрной икры до костюма «в ёлочку» (причём достаточно дёшево). Иностранцев явно не хватало, и с осени 1931 года торгсины открыли двери для простого советского обывателя. Власть разрешила гражданам сдавать драгоценности и антиквариат, а взамен получать особые чеки, по которым можно купить на соответствующую сумму продовольствие или одежду в торгсиновских магазинах. Правда, все «безделушки» оплачивались как «драгоценный лом», то есть лишь по весу металла или камней, независимо от их художественной ценности. Золотой орден екатерининских времён определялся как «зубное золото», серебряная римская монета приравнивалась к советскому полтиннику.
Параллельно проводили кампании «за валюту» и «за золото», хватая «недорезанных буржуев» и тупо выбивая из них остатки былой роскоши. Когда же «лишенцев» выпотрошили до основания, им милостиво позволили торговать на барахолках всем, что осталось. И вот тут наступало раздолье для заботливых рук «щипачей», «мывших» как продавцов, так и покупателей…
Полученные деньги блатные могли тратить со вкусом. Для обывателя с тугим кошельком даже в голодную пору первых пятилеток было, где разгуляться. Во-первых, на тех же рынках и барахолках. Цены на продукты здесь, конечно, кусались: если в обычном магазине по карточкам мясо стоило 2 рубля за килограмм, то на московском рынке — 10–11 рублей; за килограмм картофеля надо было выложить 1 рубль, в то время как государственная цена на него составляла 18 копеек. Но «честный жулик» на такие мелочи внимания не обращал: не хватит «бабок» — ещё украдём! Во-вторых, в торгсинах, если удавалось «сработать» драгоценности или валюту. Также с конца 1929 года в стране действовали коммерческие магазины: государственные предприятия торговли, где товары продавались без карточек, но по очень высоким ценам, превышавшим государственные вдвое, втрое, а то и вчетверо. К примеру, в 1931 году туфли, стоившие в обычном магазине 11–12 рублей, в коммерческом продавались по 30–40 рублей. Так ведь в обычном магазине даже самую дрянную обувь можно было приобрести только если повезёт, да ещё с боем! А в коммерческом — без проблем, были бы деньги. Неудивительно, что к 1934 году доля коммерческих магазинов составила более четверти от общего государственного товарооборота.
Короче, именно карманники позволяли сытно жить всему воровскому обществу, не только обеспечивая себя, но и наполняя общую кассу. Поневоле запоёшь: «Мы пропадём без Кольки-Ширмача»!
«А фраера вдвойне богаче стали»
Казалось бы, утверждение о разбогатевших «фраерах» на фоне пустых полок магазинов и чудовищной нищеты звучит нелепо. Действительно, в начале 30-х обеспечение товарами и продовольствием становится катастрофическим. Шейла Фицпатрик в книге «Повседневный сталинизм» цитирует американского инженера, который вернулся в Москву в июне 1930 года после нескольких месяцев отсутствия: «Кажется, все магазины на улицах исчезли. Исчез открытый рынок. Исчезли нэпманы. В государственных магазинах в витринах красовались эффектные пустые коробки и прочее декоративное оформление. Но товары внутри отсутствовали».
Уровень жизни резко снизился. В 1933 году средний женатый рабочий в Москве потреблял менее половины количества хлеба и муки по сравнению со своим питерским коллегой начала XX века. В его рационе практически отсутствовали жиры, было очень мало молока и фруктов, а мяса и рыбы — лишь 20 % от рациона пролетария царской России на рубеже веков.
Продуктами дефицит не ограничивался. Катастрофически не хватало потребительских товаров — сказался курс на развитие крупного промышленного производства в ущерб мелкому. Из-за запретов со стороны власти исчезают кустари-ремесленники, на которых в 20-е годы держалось производство глиняной посуды, самоваров, тулупов, шапок и т. д. В 30-е годы даже в общественных столовых не хватало ложек, вилок, тарелок, за ними стояли в очередь, как и за едой. «В течение всего десятилетия совершенно невозможно было достать такие простые предметы первой необходимости, как корыта, керосиновые лампы и котелки, потому что использовать цветные металлы для производства товаров народного потребления отныне запрещалось». Нельзя было достать красок, гвоздей, досок, даже ниток, иголок и пуговиц. Запрещалось продавать лён, пеньку, холст, пряжу — они считались чуть ли не стратегическим сырьём.
С одеждой был вообще полный крах. Население погрузилось в эпоху нищенства и оборванства. Петербурженка С. Н. Цендровская вспоминала о школьном детстве: «Все мальчики и девочки ходили в синих сатиновых халатах… Одевались очень плохо, особенно в 1929–1933 гг. На ногах резиновые тапки или парусиновые баретки на резиновой подошве, руки вечно красные, мёрзли без варежек». В конце 1930 года немецкий рабочий сообщал в письме своему другу: «Теперь уже довольно холодно, а в Сталинграде есть тысячи людей, не имеющих даже сапог, не говоря уже о тёплом платье. Они одеты в лохмотья, да и те так обтрёпаны, как мне ещё не случалось видеть ни на одном “тряпичном карнавале”». Так продолжалось до конца 30-х годов, да и в ту пору жители Киева жаловались, что перед магазинами одежды всю ночь стоят в очереди тысячи человек.
Власть пыталась регулировать распределение благ. Е. Осокина в книге «За фасадом сталинского изобилия» пишет: «С начала 1931 года в стране существовало четыре списка снабжения (особый, первый, второй и третий). Преимущества в снабжении имели особый и первый списки, куда вошли ведущие индустриальные предприятия Москвы, Ленинграда, Баку, Донбасса, Караганды, Восточной Сибири, Дальнего Востока, Урала. Жители этих промышленных центров должны были получать из фондов централизованного снабжения хлеб, муку, крупу, мясо, рыбу, масло, сахар, чай, яйца в первую очередь и по более высоким нормам… Во второй и третий списки снабжения попали малые и неиндустриальные города, предприятия стеклофарфоровой, спичечной, писчебумажной промышленности, коммунального хозяйства, хлебные заводы, мелкие предприятия текстильной промышленности, артели, типографии и пр.»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: