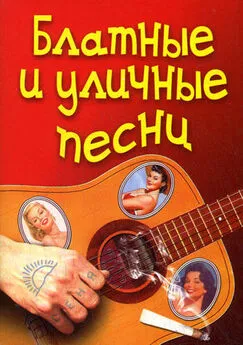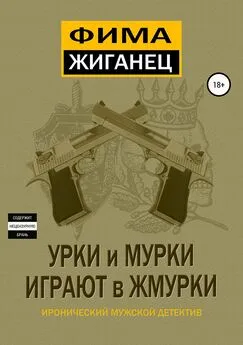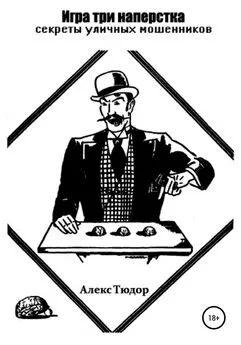Александр Сидоров - На Молдаванке музыка играет: Новые очерки о блатных и уличных песнях
- Название:На Молдаванке музыка играет: Новые очерки о блатных и уличных песнях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАИК
- Год:2012
- Город:М.:
- ISBN:978-5-91631-167-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - На Молдаванке музыка играет: Новые очерки о блатных и уличных песнях краткое содержание
На Молдаванке музыка играет: Новые очерки о блатных и уличных песнях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Более весомо другое предположение Лукашева: «Русско-английские контакты росли. Англичане приезжали в Россию, русские бывали в Англии. Так, ряд наших морских офицеров проходил практику в британском флоте, который признавался наилучшим и где знание бокса считалось само собой разумеющимся. Кроме того, в среде русского дворянства намечалась тенденция к англомании. Всё это создавало более широкие, чем прежде, возможности для ознакомления с английским боксом».
Но зачем молодому выпускнику Царскосельского лицея умение боксировать? Так ведь на 1817–1820 годы приходится время разгульной молодости Александра Сергеевича! В среде его приятелей числился Павел Нащокин. После смерти отца богатый наследник Нащокин сорил деньгами, а, поступив 25 марта 1819 года в лейб-гвардии гусарский Измайловский полк, превратил службу в кавардак с постоянными пьянками, распутством — и драками. Как отмечал известный пушкинист Мстислав Цявловский: «Пушкин в компании приятелей Нащокина принимает участие в драке с немцами в загородном ресторане “Красный кабачок” и в других развлечениях такого рода».
«Красный кабачок» — трактир, где чинно проводили время немецкие бюргеры со своими семействами. Не одно поколение гвардейских офицеров находило удовольствие в том, чтобы провоцировать германцев на мордобой, приставая к их фрау и фрейлейн. Литератор и журналист Фаддей Булгарин, столь нелюбимый нашим «солнцем русской поэзии», горестно вздыхал: «Молодые офицеры ездили туда, как на охоту. Начиналось тем, что заставляли дюжих маминек и тётушек вальсировать до упаду, потом спаивали муженьков… и наступало волокитство, оканчивавшееся обыкновенно баталией». Об этом Пушкин вспоминает и в письме к жене из Москвы в мае 1836 года, рассказывая ей о драке офицера Киреева с простолюдином: «…что за беда, что гусарский поручик напился пьян и побил трактирщика, который стал обороняться? Разве в наше время, когда мы били немцев на Красном кабачке, и нам не доставалось, и немцы получали тычки сложа руки?»
Да, здоровые, мускулистые немецкие мастеровые могли крепко накостылять любому. Потому-то техника ударов и защиты английского бокса щуплому молодому поэту была нужна как воздух. Лукашев пишет: «Именно этот нелёгкий вид спорта и самозащиты давал навыки нанесения сильных ударов в наиболее уязвимые места на теле противника и защиты от его ударов. Кроме того, бокс той эпохи учил ещё и пользоваться при столкновении вплотную подножками, которые допускались правилами. Главным же являлось то, что основной техникой бокса был тогда так называемый прямой удар, т. е. удар, наносимый по кратчайшему расстоянию — прямолинейной траектории — за счёт резкого выпрямления руки в локте… Частокол быстрых прямых ударов надёжно отгораживал боксера даже от более сильного противника». А подобная тактика представляла собой как раз то, что было необходимо Александру и его задиристым приятелям в «Красном кабачке».
Поведение гусаров и примкнувшего к ним Саши Пушкина полностью подпадает под определение злостного хулиганства. Чем отличаются бесчинства лейб-гвардейцев в семейном кабачке от налётов советских хулиганов спустя столетие на комсомольцев в «красных уголках»? Даже совпадение символическое — «Красный кабачок» и «красный уголок»! Совдеповские бузотёры крепили традиции, заложенные великим русским поэтом.
Позднее, уже в южной ссылке, у Пушкина возникает новая насущная необходимость в навыках рукопашной схватки: «Его отношения с кишинёвским дворянством складывались не самым лучшим образом, и он знал, что его недруги отнюдь не склонны прибегать к небезопасной дуэльной процедуре». Приятель Пушкина подполковник И. П. Липранди рассказывал ему: «У них в обычае нанять несколько человек, да их руками отдубасить противника». В заштатном Кишинёве, правда, возможность совершенствования боксёрской техники у поэта вряд ли была. Зато она возникла позднее, в Одессе — портовом городе, полном моряков (в том числе английских). Недаром связь моряков и бокса подметил в своём толковом словаре Владимир Даль. Приведя просторечный глагол «б оксать», он подчеркнул: «…слово, перенятое в наших гаванях, говоря о драке и задоре заморских матросов». Да и в окружении ярого англомана генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Семёновича Воронцова наверняка имелись люди, не понаслышке знакомые с боксом. Впрочем, к тому времени Александр Сергеевич уже имел обыкновение носить тяжёлую трость («железную палку восемнадцать фунтов весу», по свидетельству того же Липранди).
Учиться кулачному делу настоящим образом!
Обращение к примерам знаменитых людей важно нам не в качестве забавной иллюстрации. Оно показывает, что русский рукопашный бой в самых разных формах — от кулачного до уличного — на протяжении XIX века обогащается посредством проникновения в него элементов, заимствованных из-за рубежа, в основном из Британии. Русским «голиатам» (как называли мощных бойцов по аналогии с библейским Голиафом) было чему поучиться у иноземцев. Уже упомянутый Вильям Кокс, будучи в Москве со спутниками, заинтересовался русскими кулачными боями, и по приказу Алексея Орлова в Манеже собрали около трёх сотен московских бойцов. Сходились в боях, которые обычно проходят в начале «стеношного» боя и позволяют удары в голову. В путевых заметках британец отмечал: «На руки бойцы надевали рукавицы из такой жёсткой кожи, что с трудом могли сжимать кулак, а многие били прямо открытой ладонью. Бойцы выдвигали вперёд левую сторону тела и размахивали правой рукой, которую держали несколько наотлёт, левой отбиваясь от противника. Удары наносили кругообразно, а прямо не били. Целили только в голову и лицо. Если бойцу удавалось свалить противника на землю, его немедленно признавали победителем». О технике русских бойцов Кокс высказывается тактично, но определённо: «Мы посмотрели десятка два подобных схваток. Некоторые бойцы были очень сильны, но не могли причинить своим соперникам серьёзного вреда из-за самого способа драки, при котором невозможно нанести тех переломов и ушибов, коими часто сопровождаются бои у нас в Англии».
Итак, боксёр отмечает неудобство бойцовских рукавиц, не приспособленных для правильного формирования кулака, отсутствие прямых ударов, примитивную технику удара открытой перчаткой. Заметим, однако, что отсутствие ударов в корпус диктовалось именно формой рукавиц: как бить по телу, если нельзя сжать кулак? Описанная забава имела мало общего с реальным боем.
И всё же следует признать, что из-за массовости русского кулачного боя востребовано было в первую очередь то, что можно легко перенять и использовать в потасовке с непрофессионалами, в общей толпе. Отсюда популярность примитивной техники. Прямой удар, свинг, апперкот требовали длительных тренировок, а влепить с размаху оплеуху — это доступно каждому. Хорошо заметил известный персонаж комедии А. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» Расплюев, аттестуя боксёра: «У него, стало быть, правило есть: ведь не бьёт, собака, наотмашь, а тычет кулачищем прямо в рожу…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: