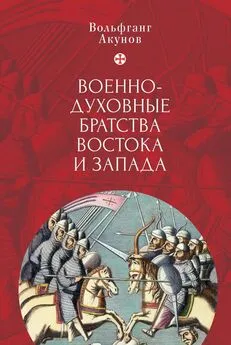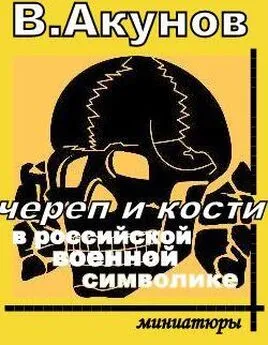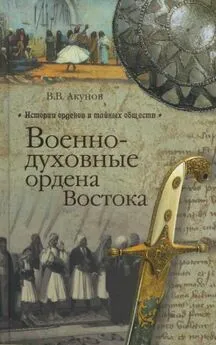Вольфганг Акунов - Военно-духовные братства Востока и Запада
- Название:Военно-духовные братства Востока и Запада
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-907189-40-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вольфганг Акунов - Военно-духовные братства Востока и Запада краткое содержание
Военно-духовные братства Востока и Запада - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подобно тому, как Святой Архистратиг Божий Архангел Михаил [15] и возглавляемое им Воинство Небесное в строгом соответствии с иерархией ангельских чинов, окружали Престол Господень, так и запорожцы при избрании кошевого отамана охватывали выстроенным по «военным степеням» (ср. псаломские степени Царя и Пророка Божьего Давида) кругом главный сечевой Храм – Покрова Пресвятой Богородицы [16] – превращая тем самым церковный алтарь в духовное средоточие своего упования.
Так православное «степное лыцарство (рыцарство)» зримо воспроизводило предвечное (и в то же время всякий раз новое) рождение Христа-Еммануила, окруженного воинством Архистратига и как бы благодатно воплощавшегося в кошевом отамане. Дистанция, разделявшая Войско и кандидата в «кошевые отаманы», набравшего наибольшее число голосов (в буквальном смысле слова, ибо собравшиеся голосовали криком), подчеркивалась не возвышением его, а, напротив, ритуальным унижением (Лк 14,11). Упиравшегося (по обычаю, с целью подчеркнуть свою скромность) избранника «товариства» выталкивали на площадь со словами: «Иди, скурвий сину, бо тебе нам треба, ти тепер наш батько, ти будешь у нас паном». [17] Ритуал поставления кошевого отамана напоминал ритуал помазания на Царство, однако, вместо святого мира, выбритую (как тонзура рыцарей-монахов!) макушку новоизбранного батька седоусые «диды» [18] мазали площадной грязью. Причем речь шла явно не о наглядной иллюстрации к пословице «из грязи в князи», а скорее о реминисценции последования панихиды: «…земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем». [19]
Чин кошевого «пана-отца» соответствовал чину Великого, или Верховного, магистра (Гран-Мэтра или Гроссмейстера)западных военно-монашеских орденов, совмещавшего в одном лице высшую гражданскую, военную и духовную судебную инстанции. Во время богослужений кошевой отаман пользовался в храме особым местом, наподобие Царского («бокуном» или «стасидией»). На имя «Его Вельможности Кошевого Отамана» адресовались не только монаршии, но и церковные грамоты. Ему присягало не только козачье «арматное стадо», но и духовные пастыри этого «стада» – служившее на Сечи священство. Будучи выборным главой монашеско-рыцарского братства, кошевой обладал верховной духовной властью. Любой священнослужитель, начиная с настоятеля сечевого Храма, мог быть по требованию кошевого немедленно удален из Коша и заменен иереем, более подходящим, с точки зрения магистра «степного рыцарства».
Тростниковая булава-насека кошевого служила явным указанием на «трость», которую «не преломит» Возлюбленный Отрок (Ис. 42б3; Мф 12,20) и которая затем, во время Страстей Господних, появляется в деснице Христа (Мф. 27,29), дабы стать золотым модулем Небесного Града (Откр. 21, 15) [20]. В период пребывания кошевого отамана в Сечи над его ставкой поднимался белый прапор (стяг). В период отсутствия кошевого этот прапор опускался. Над свежей могилой усопшего «сечевика» также устанавливался стяг белого цвета – между прочим, имевшего первостепенное значение и для всех военно-монашеских орденов христианского Запада – кроме, разве что, рыцарей Благой Смерти, кавалеров Святого Лазаря и госпитальеров [21]. Такой же прочный симбиоз, как существовавший на Западе между монашескими и рыцарскими орденами (бенедиктинцы-госпитальеры, цистерцианцы-тамплиеры и т.д.), существовал между запорожцами и старцами Святой горы Афон. Многие козаки заканчивали дни своей земной жизни подвижничеством на этом «православном Олимпе».
Что касается общего для всех духовно-рыцарских орденов обета не-стяжания, то общепринятым самоназванием запорожских козаков было «сиромахи», «сирома», «сиромашня», то есть «сироты», «бобыли», «бесприютные», одним словом – сирые (убогие, нищие, бедняки), а в более широком контексте – бедное рыцарство, сознательно расточающее отнятое у врагов Христианства богатство во исполнение обета нестяжания. Подобная, непосредственно связанная с обетом нестяжания, установка и самооценка имела место и в военно-монашеских орденах Западной Европы. Не случайно, например, Гроссмейстер (Великий магистр) ордена госпитальеров-иоаннитов именовался «попечителем нищенствующей братии Христовой» [22], а убогих и больных иоанниты именовали «своими господами».
О фактическом принятии козаками на себя обета целомудрия говорилось выше [23]. Следует лишь добавить, что запорожцы, уклоняясь от связей с женщинами, в то же время, подобно рыцарям-монахам Запада, горячо почитали Пресвятую Богородицу. Главным храмом Сечи был собор Покрова Пресвятой Богородицы, чей праздник имел для «степных рыцарей» двойное значение. Под омофором Богоматери они не боялись ни вражеского оружия, ни грозной морской стихии; под покровительством Приснодевы они сохраняли девственность и исполняли принесенные обеты. [24]
Но самое главное, что роднило православных «степных рыцарей» с их западноевропейскими собратьями по духу, заключалось в их основном жизненном предназначении – защите Христианства от натиска исламских орд [25]. Связанные, подобно членам католических духовно-рыцарских орденов, тройными узами общины (societas), веры (religio) и призвания (vocatio), заключавшегося в вечной, духовной и телесной «брани против мира сего [26]», они являлись рыцарями-крестоносцами в полном смысле этого слова – «по гроб жизни».
Характерным представляется в данной связи обычное воззвание, с которым запорожцы обращались перед походом на татар или турок к рассеянным по расположенным вокруг Сечи селам женатым козакам-«гнездюкам» («вассалам» Запорожского ордена [27]): «Кто хочет за Христианскую веру быть посаженным на кол, кто хочет быть четвертован, колесован, кто готов принять всякие муки за Святой Крест, кто не боится смерти, приставай к нам!». Как видим, это не сборы корсаров, а прежде всего поход в защиту Веры. [28] Те немногие, кому выпадало редкое счастье не «сложить буйную голову на копье бусурманское» в «Диком поле», «земле незнаемой» нашего славного «Слова о полку Игореве», и впрямь уходили в монастырь, в «святую браму», как об этом повествуется в многочисленных козацких «думах» [29]. Так и престарелые рыцари-монахи Запада доживали свой век в инфирмериях (богадельнях) своих крепостей-монастырей.
Как известно, католические рыцари-монахи отважно ратоборствовали с врагами Христианства не только на суше, но и на море. Флот военно-духовного Тевтонского ордена очистил Балтийское море от пиратских шаек «виталийских братьев» («витальеров») и в 1396 году уничтожил главное разбойничье гнездо – г. Висби на о. Готланд. Флот рыцарей-иоаннитов, именовавшихся в разные периоды своей истории также «кипрскими», «родосскими» и «мальтийскими рыцарями», был грозой мусульманских корсаров Средиземноморья, главным образом турок-османов, отправив на дно морское за несколько столетий бесчисленное множество турецких кораблей и покрыв себя неувядаемой славой в грандиозной морской битве при Лепанто [30], где был сломан становой хребет турецкого могущества в Средиземноморье.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: