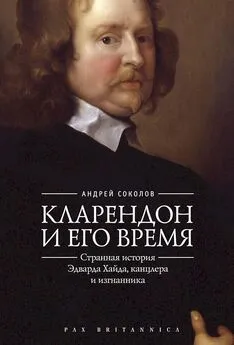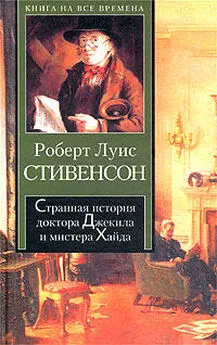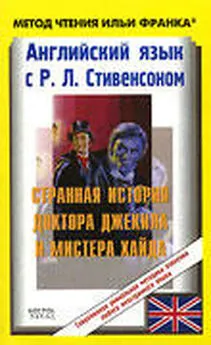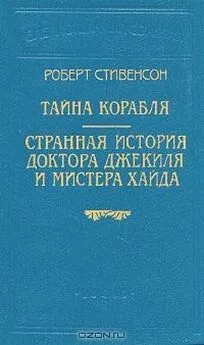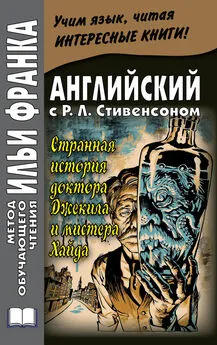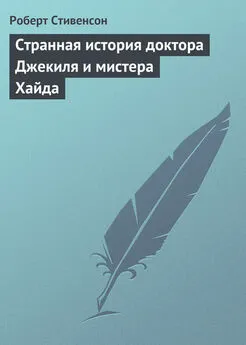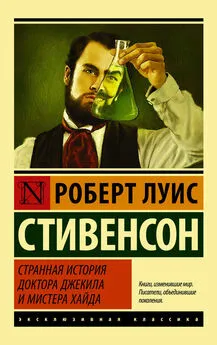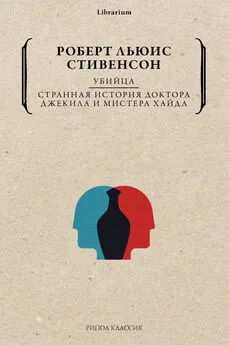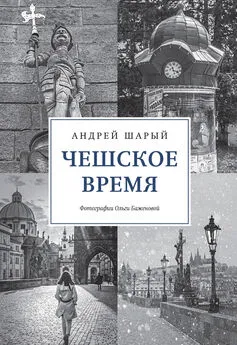Андрей Соколов - Кларендон и его время. Странная история Эдварда Хайда, канцлера и изгнанника
- Название:Кларендон и его время. Странная история Эдварда Хайда, канцлера и изгнанника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2017
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-906980-45-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Соколов - Кларендон и его время. Странная история Эдварда Хайда, канцлера и изгнанника краткое содержание
Как заметил один американский историк, «если бы не он, история Англия могла стать другой».
Кларендон и его время. Странная история Эдварда Хайда, канцлера и изгнанника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Первое прямое столкновение сторон произошло в апреле, когда роялисты предприняли попытку захватить крупнейший арсенал оружия в Гулле. Там находились артиллерия, амуниция и оружие, оставшиеся после роспуска армии, воевавшей против Шотландии.
Парламент рассчитывал перевести этот арсенал в Тауэр. Как развивались события, не вполне ясно. Назначенный парламентом комендант сэр Джон Хотем (его поместье находилось в нескольких милях от города), казалось, проявил колебание и впустил в Гулль принца Чарльза, считавшегося губернатором города. Действительно, на следующий день к городским стенам с вооруженным отрядом прибыл король. Кстати, Хайд отговаривал Карла от этой операции. Хотем отказался впустить его в город, вероятно, по требованию сына, тоже Джона, настроенного решительно в пользу парламента. В ходе инцидента впервые прозвучали выстрелы. Оставшийся без оружия Карл обвинил Хотема в измене. В дни гулльского инцидента Хайд случайно столкнулся, катаясь верхом, с лордом Холландом, присланным парламентом, чтобы убедить Карла I отказаться от захвата арсенала. Отношения между ними не были дружескими, и состоявшийся разговор был резким и угрожающим для Хайда. Вряд ли угрозы могли настроить его на возвращение. Выбор был сделан: в августе его исключили из палаты общин, в сентябре парламент утвердил список из одиннадцати человек, которые ни при каких условиях не могли рассчитывать на помилование. В их числе был Хайд. Его имя входило и во все последующие парламентские списки такого рода. После окончания первой гражданской войны, в 1646 году, индепенденты подтвердили это в переговорах с королем: «так называемый сэр Эдвард Хайд» (парламент никогда не признавал пожалования ему королем рыцарского звания), фигурировал среди тех королевских советников и приближенных, кто не мог рассчитывать на помилование, чья собственность подлежала конфискации [15, 191 ].
В Йорке к королю присоединились Фолкленд и Колпепер. Как заметил Хайд, летом в палате лордов участвовали лишь немногие, а в заседаниях палаты общин «вряд ли большинство». Те, кто присоединился к королю, были объявлены «врагами королевства»; другие подвергнуты штрафам. Он назвал действия палат «противозаконными» и нарушающими права парламентариев, «как и все, что они предпринимали» [7, II, 177 ]. На протяжении этих месяцев усилия партий были направлены на привлечение сторонников. Главную роль играла пропаганда, в которой создавался и в дальнейшем закреплялся негативный образ врага. Казалось, что идеологически позиция роялистов имела преимущества: с одной стороны, им было легче обосновать действия парламентариев как мятеж и измену. С другой стороны, кавалеры постоянно эксплуатировали понятие «достоинство», значимое в иерархическом обществе, каким была Англия раннего нового времени. Королевская пропаганда постоянно подчеркивала «низкое» происхождение тех, кто относился в парламентской партии. Это было не совсем справедливо, недаром на высшие военные посты парламент, особенно в начале войны, назначал лиц именно по происхождению, а не по способностям. Примерами служат, в первую очередь, главнокомандующий Эссекс и его заместитель Манчестер. В общественном сознании пропаганда конструировала, как заметил историк Ч. Карлтон, далекий от реальности «стереотипный образ кавалера с пивной кружкой в руке, с девкой на колене и с усмешкой на устах». Социальное превосходство неразрывно связывалось с сексуальным господством. Одна появившаяся в 1642 году баллада имела примечательное название «Лондонский рогоносец: или как на голове почтенного горожанина выросла пара извилистых фирменных рогов благодаря его веселой молодой женушке, которую хорошо прогнул франтоватый жеребенок, пока ее муж уехал, чтобы участвовать в компании в Хунслоу Хит» [30 , 53 ].
Парламентская пропаганда тоже не была лишена социального снобизма и намекала на низкое происхождение многих лиц из королевского лагеря. В ней постоянно муссировалась тема нравственной нечистоты кавалеров. Например, в одном из памфлетов говорилось, что кавалер «превзойдет в богохульстве француза, в пьянстве голландца, в разврате турка» [30, 59 ]. Однако главным компонентом пропагандистской идеологии парламента стала религия. Как отмечает Карлтон, «в отличие от роялистов, опиравшихся на легитимную традицию, парламенту было трудно, почти невозможно, оправдать борьбу против короля. В конечном счете, противники короля нашли ответ на этот вопрос в религии» [30, 60–61 ]. Отношение к войне в христианстве амбивалентно. В первоначальном христианстве любая война осуждалась, его приверженцы были пацифистами. Пацифистских идей придерживались анабаптисты и квакеры. Однако после того, как христианство стало господствующей религией, оно приняло идущую от римского права концепцию «справедливой войны». Какую войну можно считать справедливой? От Августина Блаженного идет представление о том, что справедливой является война, которую скрепляет своим авторитетом правитель. В XVI веке Макиавелли утверждал: справедливая война — это необходимая война, и правитель определяет ее необходимость. Такой подход унаследовали протестанты; по мнению Лютера, война является таким же необходимым делом, как есть или пить; с того момента, как она объявлена, солдат не несет ответственности за то, что вынужден убивать, как палач, казнящий по приговору суда. Таким образом, для пуритан гражданская война стала чем-то вроде крестового похода, в который вступили избранные богом. Разумеется, на практике религиозный фанатизм был присущ не всему парламентскому войску, возможно, тем, кого принято называть «армией нового образца». Тем не менее, в пропагандистском отношении концепция «войны за веру» была привлекательной, да и сам король давал поводы, беспочвенно надеясь, по крайней мере, в годы войны, на ирландских католиков.
Судить о том, какую роль сыграла пропаганда в 1642 году, трудно. В современной историографии, как правило, отвергается присущая марксизму идея о делении на кавалеров и круглоголовых на основе классовых различий. Историки показали: мотивы, побуждавшие идти на войну и выбрать ту или иную сторону, были разными и часто довольно случайными. Во многих случаях были разорваны дружеские (вспомним Хайда и Уайтлока) и семейные связи. Возможно, самым известным примером такого рода является история семьи Верни. Ее глава, сэр Эдмунд, о котором Хайд отзывался как о человеке чести, преданном англиканской церкви, стал на сторону Карла I не в силу убеждений, а исходя из своих представлений о порядочности и верности. Его старший сын Ральф оказался на стороне парламента, а младший, тоже Эдмунд, воевал за роялистов и погиб в Ирландии в 1649 году. А. Н. Савин писал: «Историк Кларендон, лично знакомый с ним (со старшим Эдмундом — А. С. ), был свидетелем его душевных мук. Сэр Эдмунд стал на сторону короля после больших колебаний, а три его младших сына — без колебания. Возможность того, что Ральф может в каком-либо сражении биться против отца и братьев, ужасала семью» [137, 327 ]. Как показал Карлтон, решение идти на войну бывало эмоциональным и зависело от характеров. Есть люди, которых можно отнести к числу прирожденных солдат; они легче адаптируются к агрессии и быстрее привыкают к тому, что дает война: умению подчиняться, передавая решение и ответственность старшим, находить удовольствие в чувстве братства, основанном на общем переживании опасности. Кто-то видел в уходе на войну избавление от повседневных забот, например, от опостылевшей беременной подружки. Однако нередко дружба, родство или зависимость играли решающую роль. Так, арендаторы часто следовали за землевладельцами. Некоторые старались прочитать все, что могло помочь в принятии решения, другие обращались к астрологам. Увлечение астрологией было приметой времени: собственного астролога имел Бекингем и Эссекс. Их услугами пользовались Холлис, Кромвель, Уайтлок, Ламберт и другие парламентские деятели. Кларендон цитировал астрологов в речи, обращенной к первому парламенту Карла II; этот веселый монарх, как говорили, брал с собой астролога в Ньюмаркт, чтобы угадывать победителей (на скачках — А. С. ) [146, 140–41 ].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: