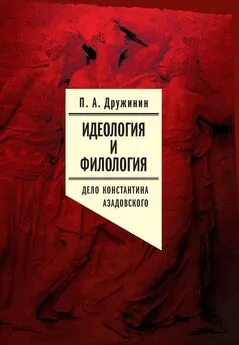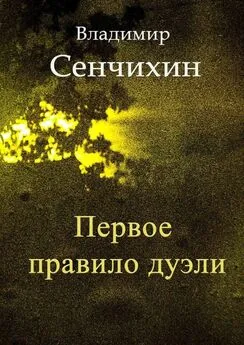Владимир Захаров - Загадка последней дуэли. Документальное исследование
- Название:Загадка последней дуэли. Документальное исследование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русская панорама
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-93165-014-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Захаров - Загадка последней дуэли. Документальное исследование краткое содержание
В Приложениях опубликованы кавказские заметки декабриста В.С. Толстого и неизвестная статья В.А. Мануйлова о тайне происхождения Ю.М. Лермонтова.
Загадка последней дуэли. Документальное исследование - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вероятно, были и другие встречи, и мальчик не сомневался в том, что Юрий Петрович его отец, не пожелавший жить в Тарханах из-за неладов с бабушкой [167] [168].
Юрий Петрович любил говорить о том, что его предки происходили от древнего испанского герцога Лермы, который во время борьбы с маврами вынужден был бежать из Испании в Шотландию [169].
До лета 1831 года в раннем творчестве Лермонтова очень большое место занимала и тема предков испанского и шотландского происхождения [170].
В 1830 году Лермонтов пишет первую стихотворную трагедию «Испанцы». В это время он уже знает драму Шиллера «Дон-Карлос», в которой среди действующих лиц встречается с именем графа Дермы. Этим именем «Дерма» юный поэт подписывает в начале 1830-х годов некоторые свои стихотворения и письма. В 1830 или начале 1831 года Лермонтов в Москве, в доме Лопухиных, начертил на стене воображаемый портрет своего испанского предка, изображенного в старинном испанском костюме с цепью ордена Золотого Руна вокруг шеи. Этот портрет затем был исполнен на холсте [171].
Лермонтов знал, что в древних шотландских хрониках упоминается некто Лермонт, участник событий, воссозданных Шекспиром в трагедии «Макбет». Этот Лермонт был приверженцем Малькольма, сына Дункана, и бился под его знаменами против узурпатора Макбета. Очень импонировал юному поэту образ легендарного шотландского певца Фомы, воспетого Вальтером Скоттом в поэме «Фома-рифмач».
В 1830 году Лермонтов пишет стихотворение «Гроб Оссиана»:
Под занавесою тумана,
Под небом бурь, среди степей,
Стоит могила Осиана
В горах Шотландии моей.
Летит к ней дух мой усыпленнный
Родимым ветром подышать
И от могилы сей забвенной
Вторично жизнь свою занять!..
Вероятно, в первой половине 1831 года в стихотворении «Желание» («Зачем я не птица, не ворон степной») поэт снова обращается к родине предков:
На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.
На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит,
Я стал бы летать над мечом и щитом
И смахнул бы я пыль с них крылом.
И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел;
Внимаем одним, и одним пробужден,
Как раздался, так смолкнул бы он.
В заключении стихотворения поэт говорит о себе как о «последнем потомке отважных бойцов», который «увядает средь чуждых снегов»…
И вот во вторую половину 1831 года в творчестве Лермонтова совершенно исчезают испанские и шотландские мотивы. Испанская монахиня второй редакции «Демона» становится грузинскою Тамарой, испанский монах «Исповеди» превращается в русского мятежного юношу Юрия Волина в «Menschen und Leidenschaften» и Владимира Арбенина в «Странном человеке».
Что же случилось, почему Лермонтов раз и навсегда с этого времени отказался от испанской и шотландской тематики, имевшей в его творчестве автобиографический характер?
Лермонтов мог потерять всякий интерес к этой испанской и шотландской экзотике прежде всего потому, что узнал о своей непричастности к роду испанских и шотландских Лермонтов. В это время в 1831 году ему минуло 16 лет. Кто-то, быть может бабушка Елизавета Алексеевна, видимо, сообщила внуку тайну его рождения. Зачем она могла это сделать? По законам того времени шестнадцатилетний юноша становился уже совершеннолетним и получал право распоряжаться своею судьбой. Е.А. Арсеньева могла совершить такой шаг только для того, чтобы закрепить за собой внука, чтобы окончательно лишить Юрия Петровича какой-либо возможности угрожать ей и шантажировать ее в дальнейшем. Можно сказать с уверенностью, что это в данном случае не Юрий Петрович сообщил своему узаконенному сыну о том, что не он, не Юрий Петрович, является его настоящим отцом. Это явствует из дошедшего до нас завещания Юрия Петровича, датированного 28 января 1831 года:
«Хотя ты еще и в юных летах, — писал Юрий Петрович, — но я вижу, что ты одарен способностями ума, — не пренебрегай ими и всего больше страшись употреблять оные на что-либо вредное или бесполезное: это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу!..
Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твое ко мне внимание, которое я не мог не замечать, хотя и лишен был утешения жить вместе с тобою…
Прошу тебя уверить свою бабушку, что я вполне отдавал ей справедливость во всех благоразумных поступках ее в отношении твоего воспитания и образования и, к горести моей, должен был молчать, когда видел противное, дабы избежать неминуемого неудовольствия.
Скажи ей, что несправедливости ее ко мне я всегда чувствовал очень сильно и сожалел о ее заблуждении, ибо, явно, она полагала видеть во мне своего врага, тогда как я был готов любить ее всем сердцем, как мать обожаемой мною женщины!.. Но Бог да простит ей сие заблуждение, как я ей его прощаю» [191].
1 октября 1831 года Юрий Петрович умер от чахотки в Кропотове. Он похоронен неподалеку в селе Шипово (Ново-Михайловском) [172]. Возможно, что Лермонтов присутствовал на похоронах Юрия Петровича и вскоре написал следующую «Эпитафию»:
Прости! увидимся ль мы снова?
И смерть захочет ли свести
Две жертвы жребия земного,
Как знать! итак, прости, прости!..
Ты дал мне жизнь, но счастья не дал;
Ты сам на свете был гоним,
Ты в людях только зло изведал…
Но понимаем был одним.
И тот один, когда рыдая
Толпа склонялась над тобой,
Стоял, очей не обтирая,
Недвижный, хладный и немой.
И все, не ведая причины,
Винили дерзностно его,
Как будто миг твоей кончины
Был мигом счастья для него .
Но что ему их восклицанья?
Безумцы! не могли понять,
Что легче плакать, чем страдать
Без всяких признаков страданья.
1973
Рукопись этой небольшой статьи, написанной в 1973 году, была передана мне Виктором Андрониковичем Мануйловым только в 80-х годах. Хотя тема «происхождения» Лермонтова обсуждалась нами до этого неоднократно уже в течение десяти лет. Да, у В.А. Мануйлова сомнения в том, что Юрий Петрович Лермантов был настоящим отцом Михаила Юрьевича, появились давно. Еще в 30-е годы, занимаясь детскими годами Лермонтова, В.А. Мануйлов столкнулся с рядом противоречий, которые в завуалированной форме были опубликованы в его статье «Жизнь Лермонтова» в журнале «Звезда» в 1939 году [128]. Затем он вернулся к ним в своей кандидатской диссертации «Семья и детские годы М.Ю. Лермонтова». Однако известные советские литературоведы Б.В. Томашевский и Л.Б. Модзалевский попросили его не делать этого и довольно часто, как рассказывал Виктор Андроникович, «подтрунивали» над ним.
Шло время и сомнения в том, что Юрий Петрович был в действительности отцом Михаила Юрьевича, росли и приумножались. Однако именно в это время Мануйлов вел огромную работу по сбору материалов для Лермонтовской энциклопедии, которую предполагал издать в трех томах. Материал присылали из всех регионов СССР. Мануйлов все это вычитывал, корректировал, перепечатывал, иногда отсылал на доработку, но нередко и сам дорабатывал многие статьи, которые должны были войти в энциклопедию. Вот тогда, как часто повторял мне Мануйлов, он понял, что поднимать этот вопрос нельзя. Советские чиновники от литературы не поймут этого и работа почти двадцати лет может закончиться крахом, Лермонтовской энциклопедии не дадут выйти.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: