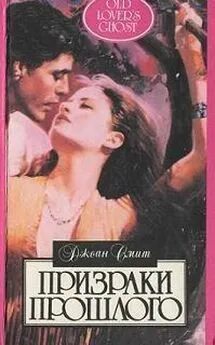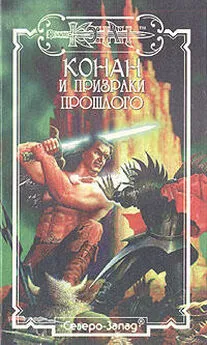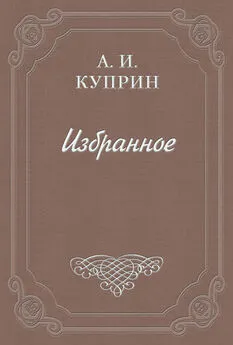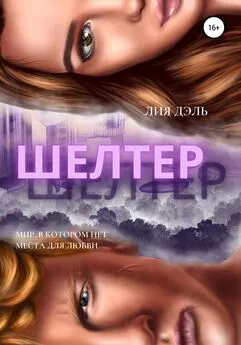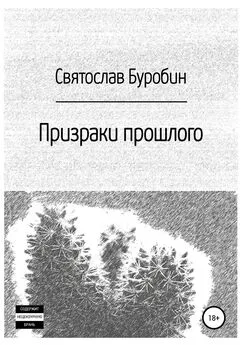Моника Блэк - Земля, одержимая демонами. Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии
- Название:Земля, одержимая демонами. Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-0013-9570-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Моника Блэк - Земля, одержимая демонами. Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии краткое содержание
Книга полна примеров, связанных с конкретными судьбами, повествование легко воспринимается и захватывает не меньше иного мистического триллера.
Земля, одержимая демонами. Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Миллионы погибли. Миллионы сгинули и пропали, так и не вернувшись домой. Миллионы оставались заключенными в лагерях для военнопленных по всему миру. Миллионы лишились всего ради дела, о собственной поддержке которого, похоже, даже не помнили. «Нам вдруг пришлось признать, — вспоминал один человек, — что все, что мы совершали, зачастую с большим энтузиазмом или из чувства долга, — все это было напрасно» [14] Thomas A. Kohut, A German Generation: An Experiential History of the Twentieth Century (New Haven: Yale University Press, 2012), 182.
. Разгром, оккупация и утраты лишь усугубили потребность в ответах. Что стало причиной поражения? Кто виноват?
Социальное отчуждение и дезориентация стали обостряться еще до окончания войны. В 1945 г. в отчете СД ( Sicherheitsdienst , подразделение контрразведки Schutzstaffel , или СС) {1} 1 Нем.: «служба безопасности», «охранный отряд». — Прим. пер.
описывались охватившие людей чувства «скорби, подавленности, ожесточения и растущей ярости», порождаемые «глубочайшим разочарованием из-за того, что доверие было оказано недостойным». Эти ощущения были особенно выраженными, отмечалось в отчете, «у тех, кому эта война не принесла ничего, кроме самопожертвования и труда» [15] «Bericht aus Akten der Geschäftsführenden Reichsregierung Dönitz von Ende März 1945», в кн.: Heinz Boberach, ed., Meldungen aus dem Reich, 1938–1945 , Band 17 (Herrsching: Manfred Pawlak, 1984), 6738.
. В последние месяцы боевых действий немцы сражались не только с армиями союзников на родной земле, но иногда и друг с другом. Около 300 000 или больше неевреев, жителей Германии, были казнены правящим режимом за государственную измену, дезертирство или пораженческие настроения. Решившие выйти из схватки порой оканчивали жизнь в петле с висящей на шее табличкой «Трус» [16] Michael Geyer, «There Is a Land Where Everything Is Pure: Its Name Is Death: Some Observations on Catastrophic Nationalism», in Greg Eghigian and Matthew Paul Berg, eds., Sacrifice and National Belonging in Twentieth-Century Germany (College Station, TX: Texas A&M University Press, 2002), 125; см. также: Sven Keller, Volksgemeinschaft am Ende: Gesellschaft und Gewalt, 1944–45 (Munich: Oldenbourg Vlg., 2013); Michael Patrick McConnell, «Home to the Reich: The Nazi Occupation of Europe's Influence on Life Inside Germany, 1941–1945» (PhD dissertation, University of Tennessee, Knoxville, 2015).
. Подобные акты «местного правосудия», особенно в небольших селениях и пригородах, едва ли могли быть забыты после войны, даже если негодованию трудно было найти выход [17] Thomas Brodie, «German Society at War, 1939–45», Contemporary European History 27:3 (2018): 505.
.
Представьте, что вы живете в маленьком городке, где вашим семейным врачом после войны является тот самый доктор, который рекомендовал нацистскому государству вас стерилизовать. Подобные счеты свести невозможно; такие утраты остаются невосполнимыми [18] H. Kretz, «Folgen der Sterilisation: Zur Frage der Entschädigung Zwangssterilisierter nach dem Bundesentschädigungsgesetz», Medizinische Klinik: Die Wochenschrift f. Klinik u. Praxis , 62. Jhg., II. Halbjahr 1967, 1301.
. Повседневную жизнь многих людей отравляли обман и предательство. Лежа ночами без сна, люди гадали, что случилось с их близкими, пропавшими во время войны. Некоторые вспоминали, как у них на глазах уводили соседей-евреев, и даже если тогда они не вполне понимали, что происходит, то поняли потом. Некоторые семьи в войну усыновили детей, сирот, как им было сказано, возможно, из Польши или Чехословакии. Однако некоторые, безусловно, спрашивали себя в мрачные моменты, кто были родители их ребенка и что с ними сталось. Во время войны люди покупали товары на сельских рынках под открытым небом, вещи, украденные у евреев, обреченных на смерть в Восточной Европе: столовые приборы, книги, пальто, мебель. Немцы ели и пили из фарфора и хрусталя, принадлежавших соседям, носили их одежду и сидели за их обеденными столами [19] Franziska Becker, Gewalt und Gedächtnis: Erinnerungen an die nationalsozialistische Verfolgung einer jüdischen Landgemeinde (Göttingen: Schmerse, 1994); Frank Bajohr, «Arisierung» in Hamburg: Die Verdrängung der jüdischen Unternehmer , 1933–1945 (Hamburg: Christians, 1997), 331–38.
.
Немецкий язык славится лексической выразительностью. Schicksalsgemeinschaft {2} 2 Сложное слово, составленное из понятий «судьба, жребий» и «сообщество, товарищество, единство». — Прим. пер.
— этим словом в войну описывалось товарищество, предположительно объединенное общей судьбой. Сегодня историки сходятся на том, что этот термин был, в общем, изобретением нацистской пропаганды [20] Neil Gregor, «A Schicksalsgemeinschaft? Allied Bombing, Civilian Morale, and Social Dissolution in Nuremberg, 1942–45», The Historical Journal 43:4 (2000); and Haunted City: Nuremberg and the Nazi Past (New Haven: Yale University Press, 2008).
. Безусловно, после 1945 г. немецкое общество демонстрировало никоим образом не единое чувство общинного и взаимного опыта, а разрушенное доверие и распад нравственных скреп. В Третьем рейхе доносительство было образом жизни. Государство поощряло граждан стучать на любого, подозреваемого в малейшей нелояльности, и отправляло многих в концентрационные лагеря, зачастую на смерть [21] Robert Gellately, Backing Hitler: Consent and Coercion in Nazi Germany (Oxford, UK: Oxford University Press, 2001).
. О человеке могли донести в гестапо за такую вроде бы мелочь, как прослушивание иностранного радио. Память о таком опыте и у предавшего, и у преданного не могла быстро развеяться. Александр Мичерлих, врач-психиатр, ставший впоследствии одним из самых видных и уважаемых общественных критиков Федеративной Республики Германия, описывал необъяснимый «холодок, пронизавший отношения между людьми» — «космического масштаба», сопоставимого с «глобальным изменением климата» [22] Alexander Mitscherlich and Fred Mielke, Doctors of Infamy: The Story of the Nazi Medical Crimes (New York: Henry Schuman, 1949), 151.
. В ходе опроса общественного мнения 1949 г. немцев спросили, можно ли доверять большинству людей. Девять из десяти ответили «нет» [23] Leo P. Crespi, «The Influence of Military Government Sponsorship in German Opinion Polling», International Journal of Opinion and Attitude Research 4:2 (Summer 1950): 175.
.
Очень многое из того, что мы знаем о мире, приходит к нам из вторых рук: от родителей, друзей, учителей, из СМИ; в значительной мере мы принимаем это на веру. Например, по словам историка науки Стивена Шейпина, мы можем «знать» состав ДНК, не проверив эту информацию лично. В этом смысле знание и доверие связаны. Чтобы «что-то знать», нужно доверять другим людям как коллективному свидетелю общей реальности, а также институтам, поставляющим данные, которые обусловливают повседневное существование. Общество как таковое можно уверенно описать как систему широко распространенных взглядов на то, как функционирует мир; взглядов, которые подводят фундамент под повседневную жизнь, придают ей смысл и преемственность [24] Steven Shapin, A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 8–41; Mary Douglas, Rules and Meanings (Harmondsworth: Penguin, 1973).
. Однако доверие не данность и не аксиома: оно исторически специфично, а значит, по-разному формируется в разных обстоятельствах [25] Peter Geschiere, Witchcraft, Intimacy, and Trust: Africa in Comparison (Chicago: University of Chicago Press, 2013), 32–33.
.
В Германии после Второй мировой войны даже основные факты повседневности не всегда поддавались простому или однозначному объяснению. По крайней мере до 1948 г. преобладал черный рынок и еда часто оказывалась фальсифицированной [26] Alice Weinreb, Modern Hungers: Food and Power in Twentieth-Century Germany (New York: Oxford University Press, 2017), 99.
. Что это — кофе или цикорий? Мука или крахмал? Даже в простейших вопросах все было не вполне тем, чем казалось. Многие годы после войны существовали официальные документы, по-прежнему упоминавшие «Германский рейх» или составленные людьми, казалось сомневающимися, входят ли еще в «империю» части страны, отошедшие Польше [27] См., напр.: Staatsarchiv München (далее StAM) Staatsanwaltschaften 3178/1, документ, подготовленный для Auslands Strafregister Berlin по запросу «unbeschränkt [ sic ] Auskunft über Bruno Gröning», где Данциг отнесен к Земле « Ostpreussen» — название перечеркнуто розовым карандашом, поверх написано «Polen».
. Нравственная сумятица побуждала «трактовать факты так, словно это не более чем мнения» [28] Hannah Arendt, «The Aftermath of Nazi Rule: Report from Germany», Commentary 10 (October 1950): 344.
. Как размышлял немецкий прозаик В. Г. Зебальд, «молчаливое соглашение, в равной мере обязательное для каждого», попросту сделало запретным обсуждение «подлинного масштаба материального и нравственного крушения, в котором оказалась страна» [29] W. G. Sebald, On the Natural History of Destruction , trans. Anthea Bell (New York: Modern Library, 2004), 10.
.
Интервал:
Закладка: