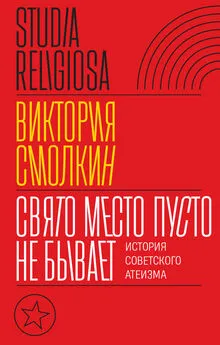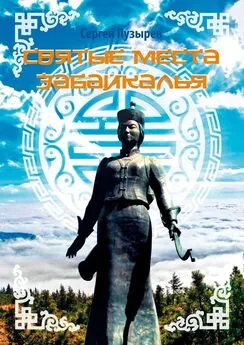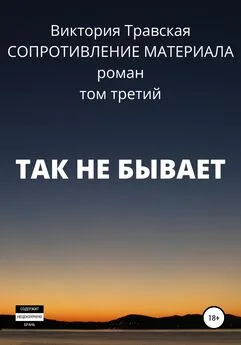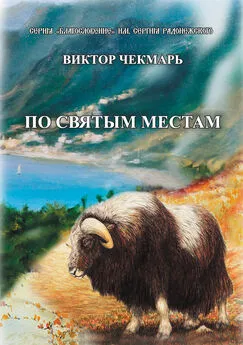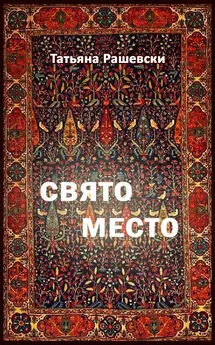Виктория Смолкин - Свято место пусто не бывает: история советского атеизма
- Название:Свято место пусто не бывает: история советского атеизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814383
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктория Смолкин - Свято место пусто не бывает: история советского атеизма краткое содержание
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher.
Свято место пусто не бывает: история советского атеизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Центрами и атеистической пропаганды, и научного просвещения чаще всего служили новые учреждения, такие как избы-читальни, клубы, дома культуры и антирелигиозные музеи. Клубы и дома культуры рассматривались как центры просветительской работы (чтения, политических дискуссионных кружков) и развлечений (танцев, любительских спектаклей, просмотра кинофильмов). Клубы служили теми каналами, через которые партия могла распространять политическое и культурное просвещение; они были предназначены заменить церковь в качестве центра общественной жизни. Действительно, активисты часто пытались превратить местную церковь в сельский клуб, тем самым преображая ее в светское пространство. В более населенных городах партия создавала антирелигиозные музеи 131. Как и школы, антирелигиозные музеи находились в юрисдикции Народного комиссариата просвещения; их обычно возглавляли активисты местной партийной ячейки или Союза воинствующих безбожников. Музейная экспозиция состояла из антирелигиозных плакатов и предметов культа из недавно закрытых церквей, мечетей или синагог; считалось наиболее эффективным, когда такие музеи располагались в бывших религиозных учреждениях, переделанных для целей пропаганды атеизма. Действительно, наиболее значимые антирелигиозные музеи были созданы в помещениях самых известных в стране монастырей и церквей: Антирелигиозный музей искусств – в московском Донском монастыре (1927), Центральный антирелигиозный музей – в московском Страстном монастыре (1928), Государственный антирелигиозный музей – в ленинградском Исаакиевском соборе (1931), Музей истории религии – в ленинградском Казанском соборе (1932). Эта музеефикация религии превращала священные предметы и священные места в преподносимые надлежащим образом культурные артефакты. Чтобы подчеркнуть приверженность делу научного просвещения, большевики привлекли значительные ресурсы для создания двух памятников научно-материалистического мировоззрения в центре Москвы. Одним из них был Донской крематорий (1927), построенный на территории Донского монастыря и пропагандировавший приемлемое с точки зрения новой идеологии видение смерти, не оставлявшее места для веры в бессмертие души 132. Другим, и гораздо более популярным, был Московский планетарий (1929), где наука представала как триумф разума 133.
Московский планетарий, первый в Советском Союзе, был создан как воплощение обещания Народного комиссариата просвещения создать «научно-просветительное учреждение нового типа» 134. Спроектированный архитекторами-конструктивистами Михаилом Барщем и Михаилом Синявским в соответствии с самыми прогрессивными принципами архитектуры и градостроительства и оснащенный новейшим немецким оборудованием, планетарий стал средоточием надежд советского просветительского проекта 135. Учитывая материальные трудности в СССР 1920‐х гг., сам факт, что большевики выделили ресурсы на строительство планетария, свидетельствует об их вере в преобразующую силу научного просвещения 136. Географическое расположение планетария рядом с Московским зоопарком свидетельствует о дидактической миссии, которую он был призван воплотить: за одну экскурсию с помощью просветительских лекций посетитель мог проследить пути эволюции и открыть для себя материальную природу вселенной.
Подчеркивая преобразующую мощь планетария, художник-конструктивист Алексей Ган описывал его как «оптический научный театр», чья функция состоит в том, чтобы «прививать зрителю любовь к науке». В целом Ган считал театр скорее регрессивной, чем прогрессивной силой. Театр, как писал Ган, был просто «зданием, в котором происходит служение культу», местом, где люди удовлетворяют свою первобытную потребность в зрелище – инстинкт, который будет сохраняться, «пока общество не вырастет до степени научного миропонимания и его зрелищные инстинкты не наткнутся на остроту реальных явлений мира и техники». Планетарий, таким образом, удовлетворит зрелищный инстинкт, но переключит его «от служения культу… к служению науке». В этом театре нового типа перед массами раскроется движение вселенной; все будет «механизировано» и у людей появится возможность управлять «сложнейшим в мире по технике аппаратом». Этот опыт поможет зрителю «выковывать в себе научное миропонимание и отделаться от фетишизма дикаря, поповских предрассудков и псевдо-научного миросозерцания цивилизованного европейца» 137.
Когда в ноябре 1929 г. Московский планетарий распахнул свои двери, убежденность, что свет науки победит тьму религии, была небывало высока 138. Так, Емельян Ярославский наделял планетарий огромным идеологическим потенциалом, утверждая, что «поповские сказки о вселенной распадаются в прах перед доводами науки, подкрепленными такой картиной мира, которую дает планетарий» 139. В 1930‐е гг. планетарий провел около 18 000 лекций и принял 8 миллионов экскурсантов. При нем был организован астрономический кружок, «звездный театр», где ставили пьесы о Галилее, Копернике и Джордано Бруно, и Стратосферный комитет, в числе членов которого был инженер-механик и «неутомимый пионер космоса» Фридрих Цандер, а также отец советской космонавтики Сергей Королев 140. Главный вопрос, занимавший пропагандистов атеизма, состоял не в том, победит ли научный материализм в битве с религией, а в том, когда и благодаря чему такая победа будет достигнута.
Большевики – строители нового мира
Быт был последним рубежом в борьбе партии против религии. Если религиозные учреждения считались неисправимыми и потому становились объектом антирелигиозных репрессий и воинствующего атеизма, то ситуация с народной религиозностью оказалась сложнее. Как писал Троцкий, «благодаря своему реализму, своей диалектической гибкости, коммунистическая теория вырабатывает политические методы, обеспечивающие ей влияние при всяких условиях. Но одно дело – политическая идея, а другое – быт. Политика гибка, а быт неподвижен и упрям. Оттого так много бытовых столкновений в рабочей среде, по линии, где сознательность упирается в традицию» 141. Теоретически большевики верили, что культурная революция и просвещение помогут человечеству вернуть себе свободу воли и преодолеть отчуждение. На практике они постоянно сталкивались с «упрямой» религиозностью масс 142.
Проблема быта долгое время была камнем преткновения как для политизированной, так и для творческой интеллигенции. Русская творческая интеллигенция с начала ХХ в., используя фразу поэта Андрея Белого, вела свою «борьбу с бытом», видя в буржуазном быте воплощение ханжества и морального разложения 143. Быт, по словам теоретика Романа Якобсона, был «тиной», «будничной ряской», «замиранием жизни в тесные окостенелые шаблоны», а революция – эстетическим проектом, который сможет смыть эту «ряску» и освободить творческие силы человека 144. В свою очередь, для большевиков революция в ее культурном измерении была не столько эстетическим проектом, сколько цивилизующей миссией. Большевики вели войну против всего, что они считали пережитками старого быта, – против недобросовестного отношения к труду, сквернословия, плевков, пьянства и сексуальной распущенности, – прививая массам «культурность»: грамотность, гигиену, трезвость и навыки правильного поведения в обществе 145. Вопросы брака и сексуальности, морали и нравственности – и, конечно, религии – обсуждались на партийных собраниях, в прессе и кружках партийного просвещения, поскольку партия пыталась наметить очертания нового коммунистического быта и правильного, большевистского поведения в повседневной жизни, особенно в семье и домашнем обиходе 146.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: