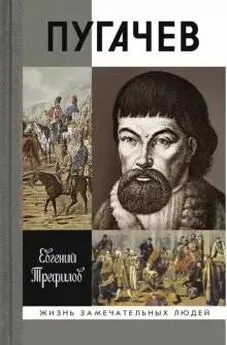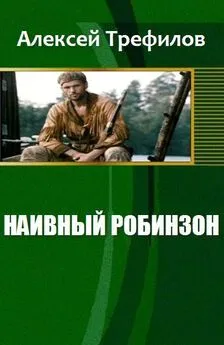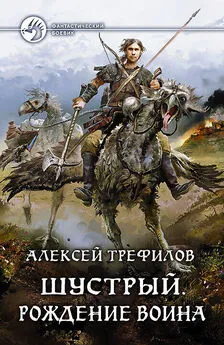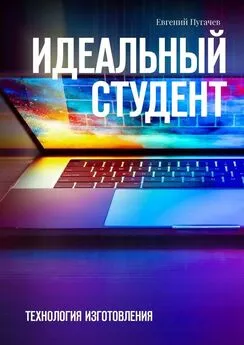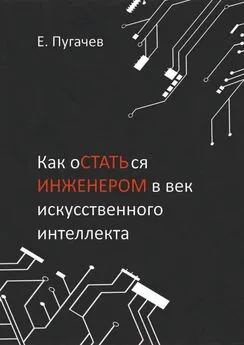Евгений Трефилов - Пугачев
- Название:Пугачев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03796-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Трефилов - Пугачев краткое содержание
Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.
Пугачев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Проживи Аграфена чуть подольше, ей, несомненно, предстояло бы знакомство с Пушкиным, работавшим в это время над «Историей Пугачева». 17 января 1834 года Пушкин записал в своем дневнике разговор, состоявшийся у него с Николаем I на балу у графа Бобринского: «Говоря о моем “Пугачеве”, он сказал мне: “Жаль, что я не знал, что ты о нем пишешь; я бы тебя познакомил с его сестрицей, которая тому три недели умерла в крепости Эрлингфоской” (с 1774-го году!). Правда, она жила на свободе в предместии, но далеко от своей донской станицы, на чужой, холодной стороне». Конечно, здесь всё напутано: это была не «сестрица», а дочь Пугачева, умерла она не за три недели, а почти за девять месяцев до разговора, случилось это не «в крепости Эрлингфоской» (Гельсингфорсе, современном Хельсинки); наконец, в ссылке она находилась не с 1774 года, а с 1775-го. Но, видимо, Пушкин так об этом и не узнал [889] Пушкин А. С. Дневник. 1833–1835 гг. // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 12. С. 319.
.
Но вернемся почти на полвека назад и посмотрим, какие же меры приняло правительство, чтобы в будущем избежать новой пугачевщины. Прежде всего, власти попытались стереть память о прошедшем бунте. Помимо того, что родственникам самозванца запретили «злодеевым прозванием называтца», по просьбе местных казаков было решено переименовать родную пугачевскую станицу Зимовейскую в Потемкинскую и перенести ее на другое место. Не по душе победителям было название Яик и все производные от него, а потому река Яик стала Уралом, а яицкие казаки и Яицкий городок соответственно казаками уральскими и городом Уральском. Наконец, манифестом от 17 марта 1775 года Екатерина II повелевала предать «всё прошедшее вечному забвению и глубокому молчанию». Однако было в манифесте и нечто более важное, чем приказание забыть пугачевщину. Согласно этому документу, приговоренных к смертной казни надлежало «от оной освободить и сослать в работу», приговоренных к телесным наказаниям — избавить от них и «послать на поселение» [890] См.: Емельян Пугачев на следствии. С. 360; Александер Дж. Т. Указ, соч. С. 207; ПСЗРИ. Т 20. № 14275. С. 85, 86.
.
Выше уже говорилось, что даже некоторые дворяне считали положение крестьянства весьма тяжелым и даже невыносимым и связывали с ним поддержку мужиками самозванца. Неудивительно, что после подавления пугачевщины некоторые представители власти призывали подчиненных поступать с крестьянами более осторожно, чтобы не вызвать новых возмущений. Кроме того, историки, в том числе и советские, отмечают, что правительство несколько улучшило положение отдельных групп крестьян, главным образом заводских, тогда как, по мнению ученых, положение помещичьих крестьян после Пугачева изменилось мало [891] См.: Крестьянская война в России в 1773–1775 гг. Т. 2. С. 22, 23; Т. 3. С. 475–477; Андрущенко А. И. Крестьянская война 1773–1775 гг. на Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. С. 322, 323.
.
Различные бунты, главным образом крестьянские, происходили как в последней четверти XVIII века, так и в следующем столетии, и тем не менее возмущение, сопоставимое с пугачевщиной, вспыхнуло в Российской империи только в 1905 году. Это означает, что екатерининская политика по предотвращению новой пугачевщины оказалась в целом эффективной. Общепризнано, что одной из важнейших мер такого рода была губернская реформа 1775 года. Помимо прочего, она позволила укрепить власть на окраинах государства, где как раз и разгорались гражданские войны XVII–XVIII веков. А поскольку эти войны начинали казаки, решающее значение для предотвращения новой пугачевщины имело то обстоятельство, что государство стало куда жестче контролировать казачьи сообщества, в том числе и уральское. Правительство стало активнее вмешиваться и во внутренние дела башкир, сыгравших важную роль в прошедшем бунте. В то же время власти запретили русским помещикам и представителям верхушки нерусских народов обращать в крепостное состояние рядовых башкир. Сделаны были шаги навстречу местной знати, например, ее представители получили право на дворянство и владение крепостными. К тому же технический прогресс позволил царской армии обладать более совершенным оружием и более развитой военной тактикой, что сделало захват арсеналов, крепостей и форпостов повстанцами почти невозможным [892] См.: Лошакова С. Ю. Оренбургский край после Крестьянской войны 1773–1775 гг.: Дисс… канд. ист. наук. Оренбург, 2003; Андрущенко А. И. Крестьянская война 1773–1775 гг. на Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. С. 323, 324.
.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
— Ты скажи мне честно, Пугачев был хорошим человеком или негодяем? — спросил один мой знакомый.
— Ну как сказать… С одной стороны…
— Ой-ой-ой. Только не надо мне этих отговорок: с одной стороны, с другой стороны… Ты прямо скажи: хороший или подонок?
Ну как тут ответишь?
На допросе в Москве 17 ноября 1774 года Пугачев признался, что во время бунта, «какия он злодействы ни делал, то не ощущал в себе человеческого сожаления, а тем меньше — раскаяния» [893] Емельян Пугачев на следствии. С. 221.
. Вроде, получается, что сам Емельян Иванович дал на вопрос моего знакомого вполне однозначный ответ. Однако не будем спешить.
Историки частенько настаивают на том, что нельзя применять наши моральные критерии при оценке людей прошедших эпох. Так, например, великий французский историк Марк Блок писал: «Что один человек убил другого — это факт, который в принципе можно доказать. Но чтобы покарать убийцу, мы должны исходить из тезиса, что убийство — вина, а это по сути — всего лишь мнение, относительно которого не все цивилизации были единодушны». Чтобы дать определенную оценку тому или иному поступку, полагал историк, «требуется еще выяснить, как оценивался подобный поступок в соответствии с общепринятой моралью того времени» [894] Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986. С. 76–78.
.
В случае с Пугачевым трудно говорить о какой-то «общепринятой морали» эпохи, ибо мораль элиты и мораль социальных низов — зачастую две вещи несовместные. А если к этому добавить, что мораль различных социальных групп и отдельных людей также порой весьма различается, то всё станет еще сложнее. Так, само по себе убийство преступлением не являлось. Пока Пугачев убивал пруссаков и турок, он, с точки зрения властей, был хорошим казаком. Но когда он стал истреблять дворян и других сторонников правительства, то превратился в преступника. Напротив, многим простолюдинам и в голову бы не пришло укорять Пугачева за казнь дворян и прочих «злодеев».
Тем не менее было в поступках Пугачева нечто такое, что могли поставить ему в вину как представители элиты, так и простолюдины. Речь, конечно, идет о самозванстве. Даже те бунтовщики, которых вполне устраивало, что во главе их войска стоит не государь, а донской казак, прекрасно понимали, что пугачевский обман, вскройся он, был бы встречен неодобрительно, а потому и убеждали своих товарищей в том, что Пугачев — настоящий император.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: