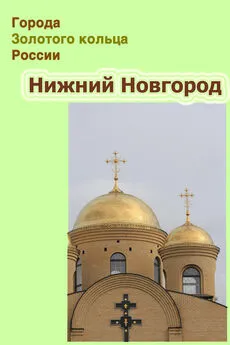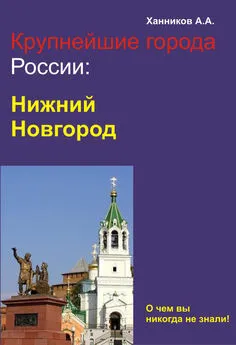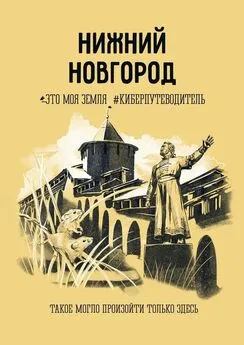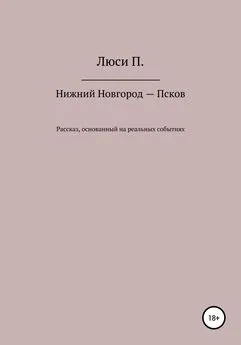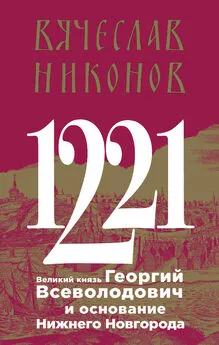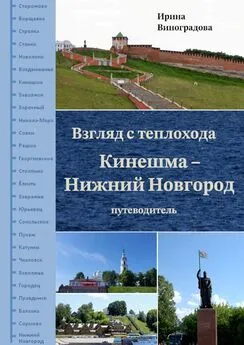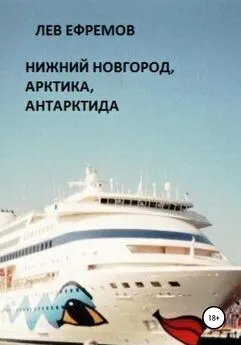Вячеслав Никонов - 1612-й. Как Нижний Новгород Россию спасал
- Название:1612-й. Как Нижний Новгород Россию спасал
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-119328-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Никонов - 1612-й. Как Нижний Новгород Россию спасал краткое содержание
В начале XVII века Россия захлебнулась в братоубийственной Смуте. Вопрос стоял о существовании Руси как государства. Интриги верхов и бунты низов, самозванщина, иностранная интервенция, недолгое правление Василия Шуйского, первое и второе народные ополчения, избрание на царство Михаила Романова — обо всем этом рассказывается в книге на большом фактическом материале.
Огромную роль в сохранении суверенитета страны сыграл тогда Нижний Новгород. Город не только отбил войска интервентов и узурпаторов, но и подвигом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского поднял народ на защиту страны в 1612 году.
Да, Россию в итоге спасала вся страна. Но без Нижнего могла и не спасти.
1612-й. Как Нижний Новгород Россию спасал - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В ответ на продвижение иностранцев на Соборе поднялась буря возмущения против Семибоярщины, и без того порицаемой за сотрудничество с интервентами, чем не преминули воспользоваться Пожарский, Минин и Трубецкой.
Еще в ноябре 1612 года они обратились к городам с запросом, пускать ли в Думу и на Собор Мстиславского с коллегами. Теперь же прозвучал ответ. «О том вся земля волновалася на них, — записал московский летописец, — чтобы им в думе не быть с Трубецким да с Пожарским». Опираясь на волю большинства соборных представителей, Пожарский, Минин и Трубецкой обязали бывших членов Семибоярщины покинуть Москву. При этом, правда, руководители Собора объявили, что бояре просто разъехались на богомолье.
И уже в отсутствие наиболее именитых аристократов Земский собор решил не принимать на трон ни польского, ни шведского королевичей, ни служилых татарских царевичей, ни других «иноземцев». То был первый шаг к принятию согласованного решения.
Из российских кандидатов первым отпал царевич Иван, коломенский «воренок», за которым стояло войско Заруцкого. Вместе с Мариной Мнишек и ее сыном атаман появился под стенами Рязани и попытался захватить ее для Ивана Дмитриевича. Однако рязанский воевода Михаил Бутурлин вышел навстречу и обратил Заруцкого в бегство. Города на Соборе практически сразу выразили свое отрицательное отношение к кандидатуре «воренка», и агитация за него стала стихать сама собой.
Царь должен быть настоящий, по крови и по Божественной воле. Все остальные варианты были отвергнуты как несущие неминуемое зло. В первых грамотах, которые рассылались от имени Земского собора, уже говорилось: «И мы, со всего собору и всяких чинов выборные люди, о государьском обиранье многое время говорили и мыслили, чтобы литовсково и свейсково короля и их детей и иных немецких вер и никоторых государств иноязычных не християньской веры греческого закона на Владимирьское и на Московское государство не обирати и Маринки и сына ее на государство не хотети, потому что польсково и немецково короля видели к себе неправду и крестное преступление и мирное нарушение, как литовский король Московское государство разорил, а свейский король Великий Новъгород взял обманом за крестным же целованьем. А обирати на Владимирское и на Московское государство и на все великие государства Российсково царствия государя из московских родов, ково Бог даст».
Но выбрать и своего природного русского государя оказалось непросто. На корону претендовали многие российские знатные фамилии.
Первый боярин Думы князь Мстиславский предельно скомпрометировал себя сотрудничеством с поляками. Василий Голицын и Филарет Романов, сильные претенденты еще предшествовавших кампаний, были в польском плену и в избирательной борьбе не участвовали.
Казаки, которые не были представителями «земли», но участвовали в Соборе де-факто, предлагали кандидатуры знакомых им по Тушину и Первому ополчению князя Дмитрия Трубецкого, князя Дмитрия Черкасского, отсутствовавшего Филарета Романова. Дворяне из рядов земского ополчения тоже были не прочь видеть на троне кого-то из земских воевод — тех же Трубецкого или Черкасского.
Трубецкой, занимавший формально первый пост в земском триумвирате, выступал как один из фаворитов. И он в полной мере использовал свое служебное положение в борьбе за престол. Именно на Земском соборе и от его имени в январе состоялся торжественный акт передачи князю в наследственное владение Важской земли. Жалованная грамота была вручена Трубецкому в Успенском соборе, причем в ней особенно отмечалось, что прежде Вага была пожалована царем Федором Иоанновичем Борису Годунову, затем Василием Шуйским — своему брату Дмитрию Шуйскому. Подчеркивалась особая роль князя Трубецкого как главного организатора и военачальника земского движения, верховного правителя страны, помощником и продолжателем дела которого изображался Пожарский. Заметим, под грамотой была подпись Пожарского, но не Минина. Трубецкой в результате этого пожалования стал крупнейшим землевладельцем в России. И он не жалел сил и средств, чтобы обеспечить себе поддержку Собора.
Однако, полагаю, именно стяжательство, наряду с неоднозначным тушинским прошлым, похоронили шансы Трубецкого. «Оскудевшие земские дворяне и казаки не простили своему командиру ни попустительства в отношении предателей, ни страсти к обогащению, — замечал Скрынников. — Они не желали видеть его на троне». Категорически против Трубецкого, пожалованного в бояре Лжедмитрием II, были настроены и старшие бояре. С их стороны — и не только — резко звучали голоса, что Дмитрий Трубецкой попросту не способен править государством.
А как же князь Дмитрий Пожарский? Забелин писал: «Нельзя совсем отрицать, что Пожарский вовсе был чужд мысли о выборе на царство и его, наряду с другими кандидатами. В его положении, как уже избранного всеми чинами воеводы земского ополчения, это было как нельзя более естественно и даже соблазнительно. Но пред всенародным множеством, по своему характеру, он конечно относился к этому делу кротко и скромно, точно так, как относился и к совершившемуся своему избранию в воеводы».
Против Пожарского позднее выдвинут обвинения, будто он истратил двадцать тысяч рублей, «докупаясь государства». Современники и историки сходятся в том, что это было ложью. Князь Дмитрий весьма реалистично оценивал свои возможности, да и казна его была пуста (в отличие от кошельков многих аристократов, которые готовы были серьезно вложиться в избрание, уверенные в том, что победа покроет любые расходы). Некоторые претенденты, отметил летописец, подкупали делегатов, «дающе и обещающе многие дары». Володихин прав: «у Пожарского имелось меньше всего шансов на избрание среди всех кандидатов. Он им всем заметно уступал в знатности».
Как же выглядел список наиболее сильных кандидатов? Читаем в «Повести о Земском соборе»: «Князи ж и боляра московские мысляще на Россию царя из вельмож боярских и изобравше седмь вельмож боярских: первый князь Феодор Ивановичь Мстиславской, второй князь Иван Михайловичь Воротынской, третей князь Дмитрей Тимофеевичь Трубецкой, четвертой Иван Никитин Романов, пятый князь Иван Борисовичь Черкаской, шестый Федор Ивановичь Шереметев, седьмый князь Дмитрей Михайловичь Пожарской, осьмый причитается князь Петр Ивановичь Пронской, но да ис тех по Божии воли да хто будет царь и да жеребеют…» То есть рассматривался вариант избрания из списка по жребию (причем в этом списке Михаила Романова не было вовсе). Так делалось при избрании патриарха: считалось, что перст Господа должен сам указать на наиболее достойного из трех кандидатов на руководство паствой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: