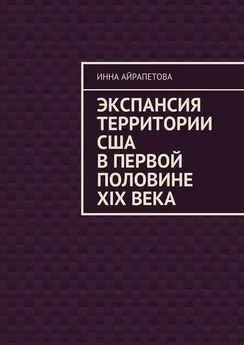Татьяна Литвинова - «Помещичья правда». Дворянство Левобережной Украины и крестьянский вопрос в конце XVIII—первой половине XIХ века
- Название:«Помещичья правда». Дворянство Левобережной Украины и крестьянский вопрос в конце XVIII—первой половине XIХ века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-44481-343-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Литвинова - «Помещичья правда». Дворянство Левобережной Украины и крестьянский вопрос в конце XVIII—первой половине XIХ века краткое содержание
«Помещичья правда». Дворянство Левобережной Украины и крестьянский вопрос в конце XVIII—первой половине XIХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вот и получается, что в условиях современной Украины, несмотря на возрастающий интерес к элитологии, в работах по истории дворянства преимущественно иллюстрируются концепции Лазаревского и Оглоблина. Но все же необходимо констатировать, что «заочная дуэль» двух крупных историков завершилась полной победой последнего — представителя «государственной» школы в украинской историографии. В недавних статьях и диссертациях выходцы из дворянства в большинстве своем предстают перед нами как меценаты, строители новой нации, деятели национального возрождения, участники общественно-политических движений, украинские патриоты, народолюбцы в смысле интереса к языку, этнографии, фольклору. Вместо образа конотопского или нежинского панкá, который только и думает, как бы выпить стопку крови своих крестьян, все рельефнее вырисовывается образ рыцаря-героя, готового броситься нам на помощь в укреплении украинского независимого государства. Но, даже несмотря на доминирование именно такого подхода, в современной литературе можно встретить упреки историкам: «До сих пор не появилось у нас никаких специальных исследований, посвященных роли шляхты (как „малороссийского дворянства“, так и польско-шляхетского элемента украинских земель) в украинском национальном возрождении XIX века» [18]. Стоит ли говорить о каких-то других проблемно-тематических разворотах?
Вместе с тем из‐за историографической инерции до сих пор сохраняются стереотипы народнической и советской историографии, что достаточно хорошо прослеживается по школьным и вузовским учебникам. Итак, в изучении отечественной элиты Нового времени все еще мерцают черно-розовые пятна [19], за которыми не видно четких контуров и нет того богатства цветов и оттенков, какое почти всегда дарит нам настоящая действительность. Конечно, это не вина современных историков, если вообще возможно к нашему делу подходить с таким мерилом. Слишком сильным оказалось влияние историографической традиции. Не стремлюсь сейчас ее оценивать, поскольку согласна с М. А. Бойцовым, что «теоретически в качестве „весьма значительного“ может быть воспринят любой образ, сохраняемый в данный момент в исторической памяти, даже на самой ее окраине. Ведь роль и место этого образа в картине прошлого определяются вовсе не некими особенными качествами, ему изначально присущими (таковых, особенных, пожалуй, нет вообще), а характером отношения (курсив автора цитаты. — Т. Л. ) к нему того, кто эту картину выстраивает в своем сознании» [20]. Но, занимаясь в течение определенного времени историей общественной мысли второй половины XVIII — первой половины XIX века и не рассуждая в категориях «те историки не правы в том-то, а эти — в том-то», я все больше ощущала недовольство от неполноты образа изучаемого предмета, а также от неполноты социальных картинок указанного периода.
Если присмотреться к историографической ситуации вокруг истории дворянства, то бросаются в глаза как минимум два обстоятельства. Во-первых, почти все исследования последних лет построены на изучении наиболее крупных его представителей, чьи имена вошли в историографический оборот более ста лет назад, — Г. А. и В. Г. Полетик, Г. П. Галагана, Тарновских, Марковичей-Маркевичей, Белозерских и т. д. Причем названные персоны рассматриваются преимущественно с акцентом на их безусловных заслугах и в первую очередь с позиций личной, семейной истории, национально-культурных процессов, истории исторической науки, а не с точки зрения истории социального сообщества, к которому они принадлежали. В связи с этим возникает вопрос: можно ли по отдельным вершинам судить обо всем дворянстве, его стремлениях, интересах, проблемах, представляли ли эти герои всё дворянское сословие, говорили ли они его голосом? Изучение социальных, региональных, национальных идентичностей дворянства при таком подходе, разумеется, также затруднено.
Во-вторых, за небольшим исключением [21], в историографии дворянства практически потерялась социально-экономическая составляющая. Поэтому вопросы, как жило дворянство, как хозяйничало, как выстраивало отношения с другими социальными группами, и прежде всего с зависимым от него крестьянством, как приспосабливалось к новым социально-экономическим реалиям, как откликалось на инициативы правительства, и многие другие остаются пока без ответа. Даже «известных» и «выдающихся» мы в социально-экономическом, бытовом измерении знаем плохо. До сих пор не проанализированы экономические взгляды Г. А. Полетики, экономические произведения В. Я. Ломиковского. И. И. Гулак даже специалистами воспринимается только как отец известного кирилломефодиевца, а Н. А. Маркевич — только как историк, фольклорист, этнограф, несмотря на то что социально-экономических работ, заметок он написал, пожалуй, не меньше, чем исторических, поскольку активно занимался хозяйственными делами. О тех, кому посчастливилось попасть на страницы энциклопедий и справочников, часто можно прочитать лишь краткое «деятель Крестьянской реформы» или что-то подобное. Тем более это касается малоизвестных и неизвестных. За кадром остается целый ряд «не интеллектуалов», но мыслящих, образованных представителей дворянства, голос которых звучал, откликаясь на важные проблемы их времени.
Часто забывается, что даже большинство «украинских патриотов» пытались быть эффективными помещиками и именно эту свою ипостась считали главной. Заботясь о собственном благосостоянии, они не только задумывались над сложными вопросами домохозяйства, ища путей его рационализации, но и активно выплескивали свои соображения на бумагу, пропагандировали свой опыт, причем иногда выходя за пределы «экономии частной», рассуждая над региональными и общегосударственными проблемами агрономии [22]. В истории украинской общественной мысли все это не нашло почти никакого отражения.
Казалось бы, здесь могут помочь труды историков экономической мысли и науки. Но, к сожалению, относительно второй половины XVIII — первой половины XIX века этого сказать нельзя. Специалисты обращали внимание только на обсуждение крестьянского вопроса в Комиссии по составлению нового Уложения 1767–1774 годов [23]и анализировали произведения Я. П. Козельского-философа, который был не столько помещиком-практиком, сколько теоретиком и затрагивал в первую очередь морально-этическую сторону проблемы. Позиции же его брата, Я. П. Козельского-депутата (от дворянства Днепровского пикинерного полка), хотя и попадали под маркировку «просветительские идеи», все же рассматривались достаточно бегло и схематично. Ну а такие «украинские патриоты», как Г. А. Полетика, вообще, на мой взгляд, неправомерно оказались в лагере «реакционеров-крепостников», причем современные авторы просто прибегают к заимствованиям из работ 50–60‐х годов XX века [24]. Все это объясняется невниманием украинских ученых к экономической истории, истории общественно-экономической мысли [25](хотя такая ситуация характерна не только для украинской, но и для зарубежной историографии [26]).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: