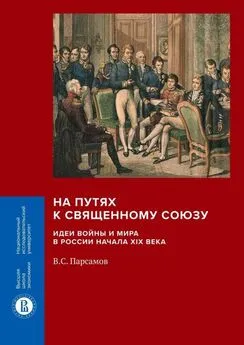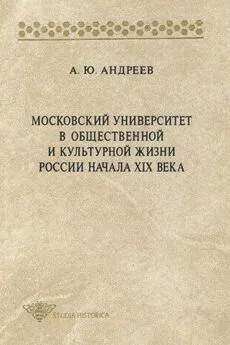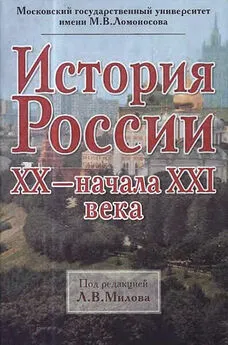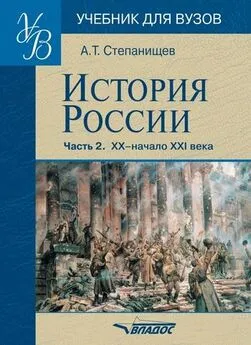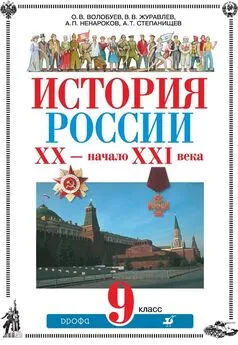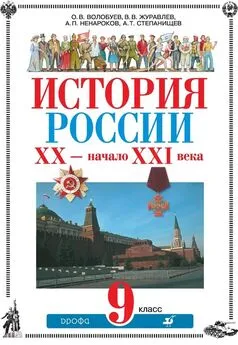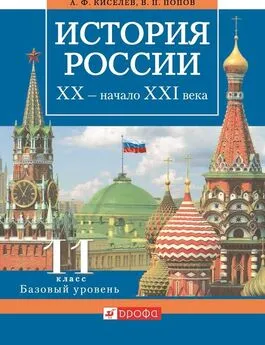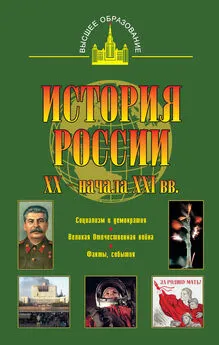Вадим Парсамов - На путях к Священному союзу: идеи войны и мира в России начала XIX века
- Название:На путях к Священному союзу: идеи войны и мира в России начала XIX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Высшая школа экономики
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-2095-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Парсамов - На путях к Священному союзу: идеи войны и мира в России начала XIX века краткое содержание
Книга адресована историкам, филологам и всем интересующимся проблемами русской и европейской истории. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
На путях к Священному союзу: идеи войны и мира в России начала XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Идея жертвенности становится почти главной в русской публицистике сразу после оставления французами Москвы. Сожженная Москва, по мнению И.М. Муравьева-Апостола, «должна быть еще драгоценнее русскому сердцу, нежели она была во время самого цветущего ее положения. В ней мы должны видеть величественную жертву спасения нашего и, если смею сказать, жертву очистительную». В этом очистительном огне должна сгореть подражательная русская культура и открыться путь к культурному самопознанию и обновлению. Обращаясь к русскому народу, Муравьев-Апостол продолжает: «Познай сам себя и свергни с могучей выи своей ярем, поработивший тебя – исполина! – подражания пигмеям, коих все душевные силы истощились веками разврата. Познай себя! А я, подобно фениксу, воспарю из пепла своего и, веселясь о тебе, облекусь во блеск и красоту, сродную матери городов Российских, и снова вознесу главу мою до облаков!» [Муравьев-Апостол, 2002, с. 6].
Производя исподволь замену Киева (матери городов русских) на Москву, а слово «русский» на «российский», Муравьев-Апостол на первый план выдвигает идею государственного могущества России в противовес порабощенной Наполеоном Европе, где «все…обветшало, износилось; нравственный и политический маразм [105]истощил все душевные силы и довел до такого единообразного ничтожества, что, так как у всех покрой платья один, так точно и физиогномия характера одна же: эгоизм и рабство» [Там же, с. 7].
Этому европейскому «маразму», из которого исключена лишь Англия («вот прямо держава!») противопоставляются внешнее и внутреннее величие России: «Истинно все чудесно у нас! Какой народ! Какие в нем силы телесные и душевные! Пространство земли нашей – семнадцать миллионов квадратных верст; народонаселение – сорок четыре миллиона, из которого сорок миллионов одним языком говорят, одним крестом крестятся!..» [Там же, с. 6].
Величие Москвы соотносится напрямую с величием Рима. Она еще в большей степени, чем древний город, разрушенный все-таки варварами, гибельна для своих врагов. Источником этих мыслей Муравьева-Апостола является римский поэт греческого происхождения, Клавдий Клавдиан, живший на рубеже IV–V веков:
Hanc urbem insano nullus qui Marte petivit
Laetatus violasse redit nec numina sedem
Destituent… [106]
Процитировав эти слова из его поэмы «Похищение Прозерпины», Муравьев-Апостол задает риторический вопрос условному адресату: «Не правда ли, друг мой, что сии слова Клавдиановы не столько Риму приличны, как Москве? – И в самом деле, кто из врагов, разорявших ее, мог веселиться ударами ей нанесенными? – Татара? Они под пятою России. – Поляки? Участь их всем известна. – Французы? Им‑то кроме сбывшегося я обещаю годину противу всех врагов наших ужаснейшую» [Муравьев-Апостол, 2002, с. 7–8].
Для Муравьева-Апостола московский пожар – важная точка культурного поворота, после которого «французская нация исчезнет», а Россия возродится для новой жизни. Мысли об очистительном характере московского пожара и последующего за ним нравственного прозрения, были свойственны, как говорилось выше, и Александру I.
Из писем Муравьева-Апостола неясно, кто же все-таки сжег Москву. Идея жертвы снимает вопрос о непосредственной причине пожара. Добровольная сдача древней столицы врагу уже свидетельствует, по мнению Муравьева, о готовности русских людей заплатить любую цену за спасение отечества.
В 1836 г. в своих «Записках о 1812 годе» С.Н. Глинка еще раз изменил свой взгляд на причину московского пожара, полностью приписав его воле Божьей: «Москва отдана была на произвол Провидения. В ней не было ни начальства, ни подчиненных. Но над нею и в ней ходил суд Божий. Тут нет ни Русских, ни Французов: тут огнь небесный » [Глинка, 2004, с. 78–79]. В пожаре Москвы Глинка видит в первую очередь Божественное наказание русским за их отступление от веры и национальной культуры: «Клубились реки огненные по тем улицам, где рыскало тщеславие человеческое на быстрых колесницах, также увлекавших за собою быт человечества. Горели наши неправды; наши моды, наши пышности, наши происки и подыски: все это горело, но – догорело ль?» [Там же, с. 79]. Заключительный вопрос не только отражает скептический взгляд Глинки на результаты войны 1812 г., которые, как ему казалось, не принесли желаемого возрождения отеческих нравов, но и по‑иному представляет параллель 1812–1612 гг. Если в 1812 г. Глинка был одним из наиболее последовательных авторов, занимавшихся поисками культурно-исторических параллелей между современной им эпохой и Смутным временем, то теперь он все больше убеждается в глубоких различиях между ними. Так, например, он считает, что в отличие от войны 1612 г., «войны 1812 года нельзя в полном смысле назвать: войною народною » [Глинка, 1836, с. 263].
Но особенно сильно отличается положение Москвы в 1612 и 1812 гг. В 1612 г. «в земле Русской все стремилось к Москве и в Москву», в 1812 г. «все выселялось и из Москвы и за Москву?». В 1612 г. русские «заключили спасение России в стенах Москвы», в 1812 г. о той же Москве торжественно повещено было, что « сдача Москвы не есть потеря Отечества ». Последняя фраза, приписываемая обычно Кутузову, у Глинки получает своеобразную трактовку. Если в 1612 г. Москва была отечеством русских людей, то Москва 1812 г. с ее французскими модами, роскошью, праздностью и всем тем, что Глинка ненавидел, противопоставляется им отечеству. Упрекая покойного Ростопчина в том, что тот «похитил у себя лучшую славу, отрекшись от славы зажигательства Москвы», Глинка имеет в виду, что Ростопчин добровольно отказался считать себя орудием Провидения. В отличие от московского главнокомандующего, сам Глинка от такой славы отказываться, видимо, не собирался, и если публично по скромности утверждал, что он «Москвы не жег и не сжег», то в своих предсмертных записках, не рассчитанных на публикацию, по крайней мере при жизни, он «признавался» в том, что именно ему принадлежит сама идея сжечь древнюю столицу, «а граф Ростопчин произвел ее в действие. Но я желал, чтобы вся заветная жизнь Москвы, то есть и святыня ее и вековые памятники были из нее вынесены. И не думайте, что это мечта» [Глинка, 1844, с. 204 об.–205].
Таким образом, московский пожар прочитывался с помощью целого ряда культурных кодов. Он являлся частью идейного комплекса народной войны и одновременно вписывался в культурную модель «варвары, разрушающие город», восходящую к римской традиции. На периферии данного культурного кода неожиданно всплывала идея «Москвы – третьего Рима» в нетривиальной трактовке: третий Рим унаследовал не только духовные ценности первого, но и его трагическую судьбу, как впрочем и судьбу второго Рим. И, наконец, версия о непроизвольном характере пожара, как результата прямого вмешательства Провидения, карающего город за грехи его жителей, явно корреспондировала с библейской традицией. Но и здесь был важен не только момент наказания города, но и мотив его огненного очищения и дальнейшего возрождения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: