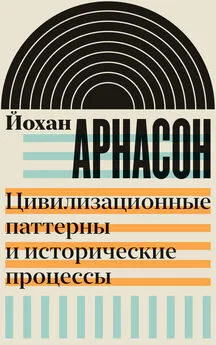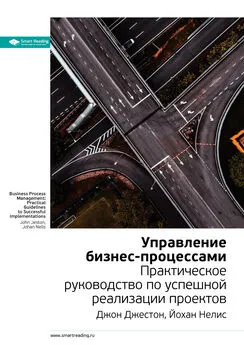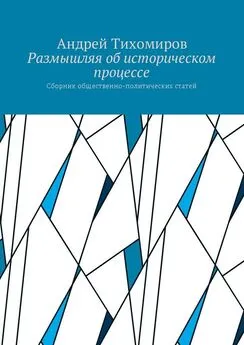Йохан Арнасон - Цивилизационные паттерны и исторические процессы
- Название:Цивилизационные паттерны и исторические процессы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444816134
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Йохан Арнасон - Цивилизационные паттерны и исторические процессы краткое содержание
Цивилизационные паттерны и исторические процессы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Допущение автономной экономической и политической динамики предполагает понятия богатства и власти, связанные с культурой, но несводимые к ней. Я обсуждал эту тройственную концептуальную схему в другом месте 69 69 Arnason J. Op. cit. P. 195–322.
и не могу повторять это в рамках данной статьи; достаточно указать на то, что обе категории должны быть определены с отсылкой к антропологическим измерениям, которые допускают дальнейшие спецификации. Богатство связано с удовлетворением человеческих потребностей и сопутствующим развитием человеческих способностей, что порождает новые потребности. Динамика, связанная с этим аспектом человеческого существования, требует символизации (репрезентации «абстрактного богатства», согласно марксистской терминологии, не ограничиваются капиталистическими обществами), и разнообразие символов – в сочетании с другими факторами – способствует различным способам накопления. Технический прогресс, расширение торговли и капиталистическое развитие (в широком веберовском смысле, включающем как модерные, так и домодерные версии) являются важнейшими историческими тенденциями в данной сфере. Что касается власти, первым шагом, по-видимому, является преодоление разрыва между определениями, которые подчеркивают трансформирующую способность человеческого действия, и теми, что понимают власть в терминах асимметричных отношений между акторами. Переплетение обоих аспектов порождает сложные формации, выделяемые реляционными концепциями власти (от Элиаса до Фуко). И по мере того, как категория власти расширяется для описания этой сложности, ее открытость к культурным определениям становится более очевидной. «Культурная пластичность власти», как это иногда называли, сегодня широко признана; оборотной стороной здесь является то, что некоторые виды пластичности могут в большей степени, чем другие, способствовать устойчивой и автономной динамике властных структур.
В заключение краткий обзор укажет пути трансляции этих общих положений в специфические задачи цивилизационного анализа. Список можно начать с развития, внутреннего для цивилизаций, но тем не менее иллюстрирующего кросс-цивилизационные тенденции, которые в каждом случае вызывают изменения, воздействующие на всю структуру. Недавние исследования выделяют «экономический расцвет», если использовать термин Джека Голдстоуна, который наблюдался в различных домодерных обществах: от греко-римского мира до империи Цин (включавшей синтез китайской и центральноазиатской имперских традиций в XVII–XIX веках). Специфические черты таких процессов отражают культурные и институциональные контексты, но некоторые фундаментальные кросс-культурные механизмы сохраняют центральное значение для любых исследований в данной сфере. Наряду с проанализированными Норбертом Элиасом элементарными структурами государственности – двойной монополией на налогообложение и средства насилия – следует учитывать и другие способы концентрации властных ресурсов.
Как экономические, так и политические формации приобретают новые исторические измерения, когда они расширяются за цивилизационные границы. Мир-экономики ( economies-mondes ), проанализированные Фернаном Броделем, особенно те, что кристаллизовались вокруг китайского, исламского и раннемодерного европейского центров, формировались их цивилизационным контекстом, включающим центр и периферию, но они также образовывали межцивилизационные пространства и структуры с особыми темпоральными паттернами, как и механизмы воспроизводства и накопления. Идея мир-экономик оказалась применимой к различным периодам и регионам, даже если ее неявное использование иногда маскируется менее удачной терминологией «мир-систем». Однако с точки зрения широкой сравнительно-исторической перспективы проблематика империй кажется даже более важной. Формы имперского правления и организации отражают культурные паттерны, которые находятся в центре более сложных цивилизационных констелляций, но имперские границы лишь в редких случаях совпадают с цивилизационными. В то же время по крайней мере в более значительных случаях империи расширяются за пределы их первоначального цивилизационного ареала и развивают собственные способы интеграции.
Модерные трансформации усиливают внутреннюю динамику как экономической, так и политической сферы. Взаимосвязанные процессы формирования государства и капиталистического развития разворачиваются на новых уровнях сложности и способности к инновациям. В то же время долгосрочный глобальный рост капитализма сопровождается имперской экспансией нового типа, начавшейся с раннемодерного создания трансокеанских империй. Но это развитие относится к эпохе, которая ставит новые вопросы о целях и ограничениях цивилизационного анализа и, следовательно, остается за рамками данной статьи.
Johann Pall Arnason The cultural turn and the civilizational approach – © SAGE, 2010 Перевод с английского Михаила МасловскогоРеволюции, трансформации, цивилизации: пролегомены к переориентации парадигмы 70 70 Arnason J. Revolutions, transformations, civilisations: Prolegomena to a paradigm reorientation // Arnason J., Hrubec M. (Eds.) Social Transformations and Revolutions: Reflections and Analyses. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016. P. 27–55.
Попытки провозгласить конец «эры революций» доказали свою несостоятельность, как, впрочем, и попытки разработать устраивающую всех модель изучения революций. Неожиданные исторические перемены побудили ученых снова обратиться к феномену революций и в то же время поставить фундаментальные вопросы о дефинициях и демаркациях в данной исследовательской области. Это по-своему касается и иранской революции 1979 года, и крушения коммунистических режимов в Восточной Европе десятилетие спустя. В обоих случаях заметны несомненные черты подлинно революционных изменений, такие как массовость народных выступлений в Иране или ликвидация всего прежнего идеологического, политического и экономического порядка в странах советского блока. Однако эти черты сочетались с менее привычными особенностями: в Иране восторжествовала теократия, а жители Восточной Европы явно стремились вернуться к старому, господствующему по всему миру порядку. События последнего времени также показывают, насколько мифологизация революции может быть далека от реальной истории. Перемены, вызванные «арабской весной», которые европейские либералы и радикалы поначалу сильно преувеличивали, в действительности оказались весьма незначительными. Достаточно привести всего два примера. В Тунисе хрупкий парламентский режим по-прежнему не может решить вопрос, какую роль должен играть ислам в политической жизни. А что касается Египта, то там военный режим, похоже, не только выжил, но и с течением времени заставил своих противников загнать самих себя в патовое положение, так что теперь им остается только решать, как лучше называть произошедшее – поражением или иллюзией? Еще один пример – это «цветные революции» в постсоветских странах. События, там происходившие, отражали всего лишь внутреннюю борьбу нестабильных властных элит, и главной причиной мифологизации этих «революций» стало желание внешних сил использовать все случившееся для реанимирования политики холодной войны. Однако те же неурядицы могут служить и напоминанием об оборотной стороне проблемы революций. Образ революции – важная часть истории, и не только потому, что он воздействует на революционные процессы. Его живущие собственной жизнью девиации проявляются как в сектантских субкультурах и донкихотских авантюрах, так и в геополитических маскарадах вроде тех, о которых только что было сказано 71 71 См. прекрасное исследование крайнего случая, где убедительно продемонстрирован онирический по сути характер революционной образности, связанной с Эрнесто Че Геварой: Koenen G. Traumpfade der Weltrevolution. Das Guevara-Projekt. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2008.
.
Интервал:
Закладка: