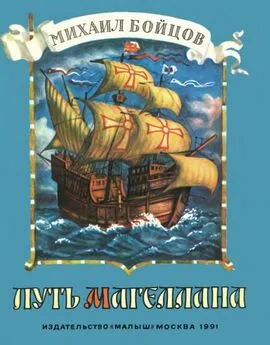Михаил Бойцов - Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе
- Название:Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский дом Высшей школы экономики
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-2219-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Бойцов - Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе краткое содержание
Книга будет интересна историкам, филологам, историкам искусства, религиоведам, культурологам и политологам.
Второе издание, переработанное и дополненное.
Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Итак, на Рейне у Людовика Благочестивого «русь» использовала свое дружинное имя, что вызвало подозрение императора, не понаслышке знавшего норманнов. При обсуждении этой проблемы на парижском коллоквиуме 1998 г., посвященном урбанизации, профессор Юхан Кальмер заметил, что люди «от рода свеонов» — шведы — не должны были вызвать подозрения в шпионаже у франкского императора. Действительно, франки в тот момент воевали с датчанами, а шведы (свеи), напротив, еще около 830 г. отправили к Людовику Благочестивому посольство с просьбой прислать в главный их «порт» Бирку епископа, согласно «Житию святого Ансгария», крестителя шведов [123]. Впрочем, отношения с этими народами, равно как и между самими скандинавами, не могли быть стабильными, как свидетельствует то же «Житие…» [124]: шведские противники христианизации преследовали миссионеров (изгнанных в 845 г.); кроме того, изгнанный из Швеции конунг Анунд бежал в Данию, пообещав датчанам отдать за возвращение к власти упомянутый город Бирку [125], и только христианская вера и откуп спасли жителей от разорения (датская морская рать направилась против неназванного славянского города — Волина?).
Джонатан Шепард исследовал исторический контекст известия Бертинских анналов, обратив внимание на то, что накануне посольства греков к Людовику прибыло посольство англосаксонского короля Этельвульфа (Уэссекс). Послы предупреждали императора о видении, посетившем одного из священников — он предвидел, что язычники опустошат христианские земли «огнем и мечом»; Шепард видел в этих язычниках норманнов [126]. Тот же автор перечислил археологические находки в Северной Европе, которые могли отражать деятельность посольства народа Рос: это семь византийских монет Феофила и одна печать [127]. Места находок примечательны: это главные порты викингов — Хедебю в Дании и Бирка в Швеции (там найдены серебряный милиарисий и два медных фоллиса), а также упомянутое Новгородское городище. В ранней работе C. Франклин и Дж. Шепард предполагали (вслед за Т. Арне), что каган русов мог сидеть в Бирке, правда, он не упомянут в «Житии святого Ансгария» [128]. Польский скандинавист В. Дучко расширяет число находок, включая Гнёздово — крупнейший торговый центр эпохи викингов на Верхнем Днепре возле Смоленска [129]. В Гнёздове сконцентрировано наибольшее количество монет Феофила — 11 [130]. Среди них — золотая монета-привеска из гнёздовского кургана Л-47 (содержавшего погребение по обряду скандинавского сожжения в ладье), прочие обнаружены в слое поселения. Эти находки провоцируют на прямое соотнесение их топографии с маршрутом посольства 839 г., подразумевавшим днепровский путь из варяг в греки [131], а не Дон со строившимся Саркелом. Они дают и дальнейший простор для спекуляций на тему размещения упомянутого «Русского каганата» на северном «острове русов» в районе Новгорода [132], в Волго-Окском междуречье [133]или — более традиционно — в киевском Приднепровье, в ареале волынцевской культуры [134].
Однако, как уже говорилось, ни Городище, ни Гнёздово (ни даже Киев) не имеют напластований, синхронных посольству [135]. Монеты, использованные в качестве привесок к ожерелью, не дают абсолютной даты, они зафиксированы во вторичном использовании. Это относится и к милиарисию Феофила из Бирки, включенному как подвеска в женское ожерелье: еще Т. Арне в 1946 г. увязывал эту находку с посольством 839 г., полагая, что русский хакан пребывал прямо в Бирке; правда, Арне не были известны другие находки монет Феофила, в том числе фоллисы, которые уже Дж. Шепард приписал посольству 839 г., — медные монеты не могли использоваться в международной торговле и оказались невостребованной мелочью в кошелях русского посольства [136]. «Прямые» исторические выводы из отдельных находок более чем рискованны.
Вместе с тем археология демонстрирует все разнообразие этнокультурных контактов на Балтике: в балтийских «воротах» Руси — на Ладоге — и в других торговых поселениях Восточной Европы преобладают находки из средней Швеции — региона Бирки, но выделяются и «импорты», имеющие датское или датско-фризское происхождение. Для нашей темы показательна специально рассмотренная Дж. Шепардом находка 1966 г., происходящая из Хедебю: это печать патрикия Феодосия, датируемая временем от 820 до 860 г. и свидетельствующая об активности византийской дипломатии на Балтике в период, когда Византия боролась с арабами в Западном Средиземноморье (Шепард напоминает в связи с этим и о набеге «руси» на Севилью в 844 г.). Послы «народа Рос» могли быть участниками этой дипломатической миссии, и находка печати может указывать на их маршрут на Балтику — из Ингельхайма в Хедебю [137]. Еще две печати Феодосия были недавно найдены в культурном слое г. Рибе — «порта» викингов, расположенного на границе Дании и Фрисландии [138], — и в богатой находками королевской усадьбе (?) и культовом месте в Тиссё (северо-западная Зеландия) [139]. В. Дучко предположил даже, что греки решили использовать шведских «росов», чтобы установить контакты с Данией, это должно было лишь усилить подозрительность Людовика Благочестивого [140]. Как бы то ни было, перечисленные находки, сосредоточенные в центрах датской королевской власти, упрочивают предположение о византийской дипломатической активности на Балтике, но не могут считаться прямым отражением маршрута посольства 839 г.
Так или иначе, норманны и хазары оказывались в сфере интересов Византии в 830–840-е годы, и посредником в реализации этих трансконтинентальных интересов была начальная Русь.
Собственно русская — восточноевропейская — история в Начальной летописи, «Повести временных лет» (ПВЛ), начинается (под 859 г.) с рассказа о дани, которую брали с народов Восточной Европы варяги и хазары: «В лѣто 6367. Имаху дань варязи, приходяще изъ заморья, на чюди, и на словѣнехъ, и на меряхъ и на всѣхъ[,] кривичахъ. А козаре имахуть на полянех, и на сѣверехъ, и на вятичихъ, имаху по бѣлѣ и вѣверици тако от дыма» [141]. Затем в Новгород были призваны править «по ряду» (договору) варяжские князья, и Рюрик, сделавшись единовластцем, распространил свою власть на «всех кривичей» в верховьях Волги и Западной Двины, а также на мурому (Муром) на Оке. Археологи фиксируют концентрацию скандинавских древностей и кладов первой половины IX столетия в Юго-Восточной Прибалтике, Поволховье и на Верхней Волге и Оке, т. е. там, где действительно жили чудь, словене, кривичи, меря и мурома.
Фраза, вводящая рассказ о дани, подверглась конъектурным исправлениям в современных изданиях (ПВЛ в лаврентьевской редакции под 859 г.) [142], ибо издатели усмотрели в перечне племен-данников белозерскую весь. Соответственно дань брали «на чюди, на словѣнехъ, на меряхъ и на всѣхъ, кривичах», а призывали варягов не только «чюдь, словенѣ, кривичи и вси», а «чудь, словене, кривичи и весь». Конъектура основывается на методах шахматовской реконструкции текста начального летописания: в легенде о призвании князей сказано, что один из призванных братьев, Синеус, получил Белоозеро, где (согласно космографическому введению к ПВЛ) «сидела» весь. И хотя в Новгородской первой летописи (НПЛ), которую Шахматов считал коррелятом начальной редакции летописного текста, нет упоминания о варяжской дани со «всех кривичей», как нет и упоминания о хазарской дани (не актуальной для северной Новгородчины), а призывают варягов лишь чудь, словене и кривичи, возможности «историцистской» реконструкции текста оказались важнее. Позднейшие издатели настаивали, что переписчики древних сводов приняли этникон «весь» за местоимение [143]. Скорее, интерпретаторы текста ПВЛ не поняли значения местоимения в летописи: в отношении «всех кривичей» оно имело смысл в контексте космографического введения, где кривичи располагались в обширном регионе у истоков трех трансконтинентальных водных магистралей — Западной Двины, Днепра и Волги. НПЛ при редактировании была лишена космографического введения, и словосочетание «все кривичи» было непонятным. Столь же неясным и анахронистическим для НПЛ, сокращавшей ПВЛ, было выражение «вся русь» в отношении пришедшей с призванными князьями дружины — его заменили на «дружину многу», ведь «русь» для новгородца пребывала в Киеве, а не в «заморье». А. А. Шахматов, признававший «заморское» (скандинавское) происхождение имени «русь», воспринимал его (вслед за ПВЛ) как обозначение народа и интерпретировал выражение «вся русь» в буквальном смысле: летописец знал, что в Скандинавии нет народа русь, стало быть, призванные князья переселили весь этот народ с собой в Восточную Европу [144]. Между тем от имени «всей руси» был заключен первый договор с греками (911 г.) — речь шла о дружине, диктовавшей условия договора [145].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: