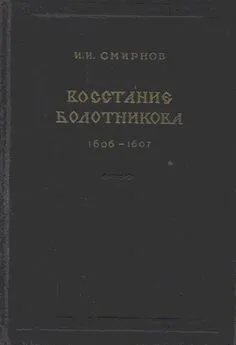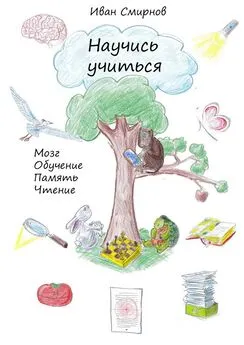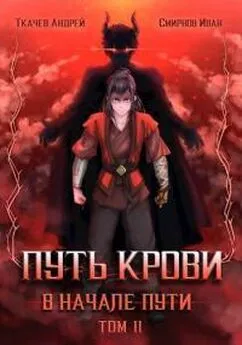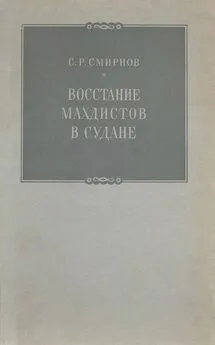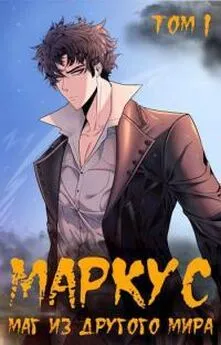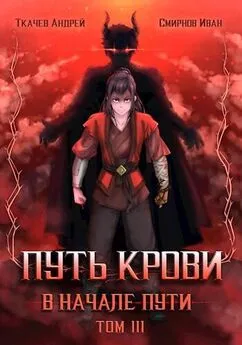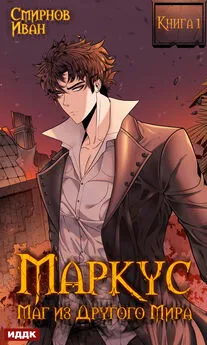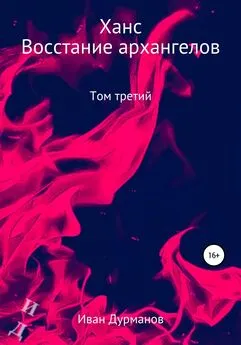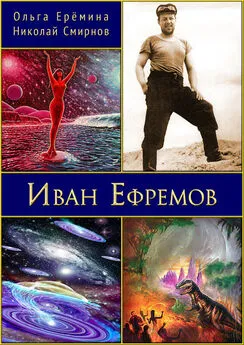Иван Смирнов - Восстание Болотникова 1606–1607
- Название:Восстание Болотникова 1606–1607
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Госполитиздат
- Год:1951
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Смирнов - Восстание Болотникова 1606–1607 краткое содержание
Восстание Болотникова 1606–1607 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Именно такой, очевидно, была и вся Комарицкая волость. К этому надо добавить, что (в подтверждение слов Исаака Массы) Комарицкая волость, наряду с хлебом, была богата и промысловыми угодьями: «бобровыми гонами», «рыбными ловлями» и «бортными ухожьями», которыми владели те же комарицкие мужики [295]. При этом в источниках сохранились указания на вольный характер владения крестьян этими угодьями [296].
Несмотря на раздачу в XVII в. крестьянских земель стрельцам, пушкарям, казакам, а также церквам и монастырям, Комарицкая волость сохранила свой крестьянский облик вплоть до Петра I, когда на ее территории появился первый крупный светский землевладелец в лице князя Дмитрия Кантемира, которому были пожалованы в вотчину 1 000 крестьянских дворов в Комарицкой волости [297].
Эти данные по социально-экономической истории Комарицкой волости в XVII в. могут быть положены в основу характеристики Комарицкой волости и накануне восстания Болотникова, когда ее крестьянское лицо было еще цельнее и отчетливее, а не-крестьянские элементы населения исчерпывались небольшой группой служилых людей «по прибору», входивших в состав севского гарнизона.
В положении Комарицкой волости накануне восстания Болотникова следует отметить еще один момент. Г. М. Пясецкий указывает на то, что в административном отношении Комарицкая волость издавна занимала особое положение, так как входила в состав дворцовых земель — сначала литовских великих князей, а затем московских государей. Этим особым положением Комарицкой волости Г. М. Пясецкий объясняет то обстоятельство, что «Комарицкая волость не сливалась в разных актах, грамотах и отписках с городом Севском, как другие уезды с своими городами, а присоединялась к нему как особая единица, приданная ему в полицейском и административном отношении».
Особое положение Комарицкой волости выражалось и в том, что «в экономическом отношении она имела независимое от Севска управление, свою Дворцовую Приказную Избу, своих управителей и дворцовых старост» [298]. Характеризуя Комарицкую волость как дворцовую, Г. М. Пясецкий вместе с тем сообщает о коренных изменениях в положении Комарицкой волости накануне восстания Болотникова. Изменения эти состояли в том, что «царь Федор Иоаннович, ввиду стратегического значения Севского уезда, предоставил его, со всеми доходами, своему шурину Борису Феодоровичу Годунову » [299]. В этой связи Г. М. Пясецкий привлекает для характеристики Комарицкой волости времени Бориса Годунова знаменитую песню про «комаринского мужика», относя ее возникновение именно к началу XVII в. и видя в ней отражение реальных событий борьбы комарицких мужиков против Бориса Годунова как своего «барина». В такой интерпретации «Комаринской» ее слова:
Ах ты, сукин сын, комаринский мужик,
Не хотел ты свойму барину служить,
становятся «памятником измены комаричан Борису не только как государю, но и как своему помещику — барину» [300].
Нет необходимости говорить о том, насколько важны эти сообщения Г. М. Пясецкого. Превращение «комарицких мужиков» из дворцовых черных крестьян в крестьян частновладельческих, боярских, совпавшее притом по времени с введением «заповедных лет» и уничтожением права крестьянского выхода, должно было особенно остро сказаться на обстановке внутри Комарицкой волости. Вместе с тем такие перемены в положении Комарицкой волости создавали особо благоприятную почву для восстания комарицких крестьян, для которых в лице Бориса Годунова соединялся и глава крепостнического государства и феодал-боярин.
К сожалению, очень трудно определить, на основе каких источников построены сообщения Г. М. Пясецкого: что из этих сообщений является обоснованным документально, что имеет под собой местную традицию и что, наконец, представляет собой домыслы самого Г. М. Пясецкого.
То, что Комарицкая волость являлась дворцовой волостью и имела свое особое дворцовое управление, по-видимому, не может вызывать сомнений. Во всяком случае, излагая материалы петровской переписи 1707 г., Г. М. Пясецкий прямо говорит о том, что «в XVIII в. в селе Лугани сосредоточивалось управление всеми дворцовыми имениями Комарицкой волости. Здесь находилась Дворцовая Приказная Изба с дворцовым управителем и становыми старостами, стоявшими во главе управления» [301]. Можно думать, что эта Дворцовая Приказная Изба, как показывает само ее название, уже существовала и в XVII в.
Сложнее обстоит дело с вопросом о пожаловании Комарицкой волости во владение Борису Годунову. Мне не удалось установить, на чем основано утверждение Г. М. Пясецкого о том, что царь Федор Иванович пожаловал Комарицкую волость «со всеми доходами» Годунову. Но если Г. М. Пясецкий и не указывает источников этого своего сообщения (быть может, в основе его лежит местная традиция?), то само по себе сообщение о пожаловании Комарицкой волости Годунову представляется вполне вероятным.
Одно известие у Флетчера придает данному сообщению Г. М. Пясецкого еще больший интерес. Характеризуя доходы Годунова и перечисляя ряд местностей, доходы, с которых шли Годунову, Флетчер указывает, что Годунов получал также 30 000 рублей « out of Rezan and Sever ( an other peculiar )» [302]. Середонин в своем комментарии к сочинению Флетчера отождествляет « Sever » с Северской землей и очень скептически относится к данному известию Флетчера, указывая, что «в высшей степени сомнительно, чтобы Борису принадлежали доходы с Рязанской и Северской областей и притом в количестве 30 000 рублей» [303].
Однако такой скептицизм Середонина вряд ли можно считать обоснованным. Прежде всего вызывает сомнение правильность отождествления « Sever » Флетчера с Северской землей. Дело в том, что для обозначения Северской земли Флетчер употребляет форму « Severskoy » [304]. Это отличие названий « Sever » и « Severskoy » отмечено и в русском переводе Флетчера, где « Sever » переведен как «Северск» [305]. Но не имеется ли в виду Флетчером не несуществующий «Северск», а исторический Севск, т. е. Комарицкая волость? Возможность такой постановки вопроса вытекает не только из того, что для обозначения данного владения Годунова Флетчер употребил иное название, чем для Северской земли, но также из указания Флетчера на характер того права, на котором Годунов владел местностью « Sever ». Как видно из приведенного текста, Флетчер употребляет для характеристики прав Годунова на местность « Sever » термин « peculiar ». Этот термин, подчеркивающий привилегированный характер данного владения, представляет в данном случае особый интерес, так как этим же термином Флетчер обозначает и право владения Борисом Годуновым Вагой [306]. Таким образом, Вага и « Sever » рассматриваются Флетчером параллельно, и « Sever » назван Флетчером « аn other peculiar » именно по отношению к Ваге.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: