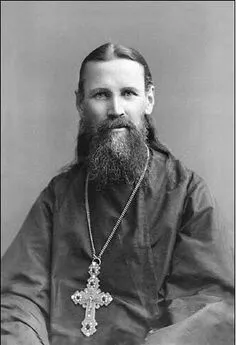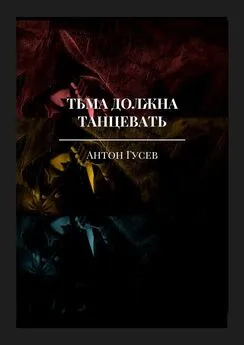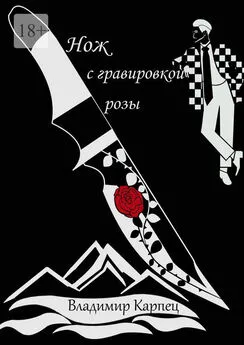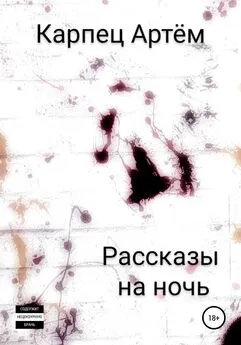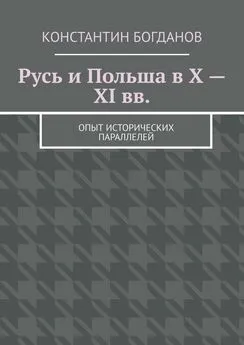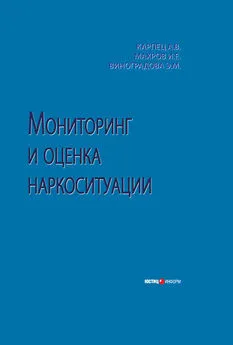В.И. Карпец - Русь Мiровеева (опыт «исправления имен»)
- Название:Русь Мiровеева (опыт «исправления имен»)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В.И. Карпец - Русь Мiровеева (опыт «исправления имен») краткое содержание
Сегодня совершенно ясно, что в истории и культуре России жизненны и очевидны только две сквозные идеи — о Церкви и о Царстве. Если их так или иначе нет, налицо черты вторичности, подражания, печать чужого. Но еще хуже то, что и эти две сокровенные идеи русской истории сегодня почти полностью превращены в пародию (хотя мы и знаем, что Церковь врата адовы не одолеют). Более того, современный мир весь и есть пародия. Монархию невозможно восстановить. Всякая попытка восстановления — все равно чего — «монархии», «советской власти» или «истинной демократии» — с неизбежностью оборачивается и обернется гнусной и жуткой пародией. Но Царство бывает явлено. Как и в каких внешних формах — Бог весть. Оно может быть явлено вдруг — во исполнение обетований, данных века назад, святым и старцам, явлено не благодаря, а вопреки нам нынешним. Это область чуда — когда невозможно ничего, возможно все.
Русь Мiровеева (опыт «исправления имен») - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Живот и смерть пред лицем вашим, благословение и клятву: и избери живот, да живеши ты и семя твое, любити Господа Бога твоего, послушати гласа Его, и прилепитися к Нему: яко сие живот твой, и долгота дней твоих, жити на земли, ею же клятся Господь Бог отцем твоим, Аврааму и Исааку и Иакову, дати им» (Втор. 30, 15-20).
Именно это и не исполнил Алексей Михайлович, сначала инициировав губительную церковную реформу, а затем незаконно отстранив законного (хотя и осуществлявшего реформу) Патриарха. И если на Михаиле Феодоровиче исполнялось благословение Рода, то на сына Алексея Михайловича, Петра Великого, со всею неотменимостью обрушилось проклятие. Это также следует признать ясно и недвусмысленно, одновременно столь же ясно и недвусмысленно признавая все имперостроительные и военные заслуги Петра. Издав свой так называемый Указ о престолонаследии, по которому Царь отказывался от древнейшего, еще салического, закона о переходе Престола от отца к сыну, он сам же исполнил свой Указ в наиболее радикальной форме, убив собственного сына, Цесаревича Алексея Петровича, при этом не передав Престола никому. Причем царь-цареубийца, исполняя цареубийственный указ, по сути, приносит «строительную жертву» в основание созидаемого им земного града, то есть, архетипически совершает древлее совершавшееся его предками — Криве-Кривейте.
Дерзнем высказать следующее предположение. Военные, хозяйственные, дисциплинарные и прочие преобразования к концу ХVII столетия были необходимы, ибо без них Россия разделила бы судьбу Индии, по-видимому, превратившись в колонию Британской Империи (при этом «бытовое Православие» и московский уклад для «русских аборигенов» мог бы быть и сохранен. Разумеется, дабы избежать этого, следовало делать все, что делал Петр Великий в конкретных областях. Также необходимо было и движение на север и северо-запад, к истокам единого Рюрико-Романовского Рода. Однако (по разным, в том числе и личным, причинам) Петр Великий понял стоявшую перед ним реальность как формулу «или реформы, или Православие», в то время как она выступала на самом деле в виде совершенно противоположной формулы «и то, и другое» (так в свое время еще при Алексее Михайловиче рассуждал крупнейший дипломат Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин). Так же, по-петровски, но только с обратным знаком, рассуждали и противники Преобразователя, вплоть до его собственного сына. Отступление Петра Великого, как и ранее Алексея Михайловича, от исполнения всех Правил и Постановлений Вселенских соборов и заветов святых отцов Церкви привело также и к искажению «геополитической оптики» первого Российского Императора. Место для новой столицы выбрано было неудачно, более того, глубоко ошибочно. По-видимому, следовало бы не заново строить Петербург, но восстанавливать древний Словенск-Гардарику, хотя и с морским портом на месте нынешнего Петербурга, там, где, собственно, во времена Словенска-Гардарики и размещался морской порт Водин. Более того, именно исходя из природы Романовской ветви Царского Рода («решит»), следовало бы соделать главным храмом Русского Царства Святую Софию Новгородскую, как это и было при первых Рюриковичах. Тем самым Романовы исполнили бы свою изначальную миссию «княжат Решских» — пребывая иконой (как всякий Царь) соединить в себе «раздельное и раздробленное мировое бытие», создав «единое могущество, долженствующее объединить все». В этом случае Белый Патриарший Клобук вернулся бы в Новгород (Словенск), столицей Царей могла бы стать Русса, а «окно в Европу» «прорублено» через морской порт Водин. Это и стало бы осуществление идеи Третьего Рима как Русско-Царской земли в ее целом.
Между прочим, чрез исполнение закона неотменимо осуществились бы также и чаяния благодати — голубка над куполом Св.Софии Новгородской есть не что иное, как Символ Святого Духа — Roakh. В этом и заключалась историческая миссии Романовых-«княжат Решских» — сопрячь разрозненные звенья русской истории, открыв путь к ее подлинному обновлению (renovatio) — как духовному, так и государственному. Однако, исполнена она не была — и прежде всего уже на начальном ее этапе (Никон — Алексей Михайлович). А потому вместо восстановления Великого Словенска возник «незрелый плод Славянства — Петербург» (М.Волошин).
Далее, вплоть до Императора Павла, как писал В.О.Ключевский, «никогда в нашей стране, да, кажется, и ни в каком другом государстве, верховная власть не переходила по такой ломаной линии». Что могло означать в этом случае сохранение за новыми, часто просто возводимыми на Престол гвардией Императорами имя Романовых?
Для понимания всей глубины и трагизма «Романовской» проблематики в ХVIII-XX веках, во многом определившей и исторические судьбы самой России, нам придется обратиться к философскому наследию инока Андроника (А.Ф.Лосева), а именно к его изысканиям о имени и сущности.
«О слове мы можем говорить в отношении любого предмета, — писал инок Андроник, — об имени же — только в отношении или личности, или вообще личностного предмета. Но тогда лучше противопоставлять не имя и личность, а слово и вещь; когда же мы говорим об имени, то его лучше противопоставлять сущности, ибо имя вбирает в себя от именуемого все его личные свойства и оставляет в нем лишь голую субстациональность, лишенную решительно всяких качеств. Итак, диалектика мифа может быть в целях простоты и однозначности сведена к диалектическому взаимоотношению сущности и имени […] Но главным образом и по преимуществу здесь будет иметься в виду перво-сущность, то есть та, которая изначала и сама по себе имеет такую диалектическую структуру».
И далее:
«Имя сущности присуще самой сущности по ее природе и существу и неотделимо от нее, будучи ее выразительной энергией и изваянным, явленным ликом. Но сущность сообщает себя инобытию, твари, чистому ничто […] Тварь создается, то есть получает свое имя, от сущности, то есть от ее имени, и потому имя сущности и имя твари принципиально одно и то же».
Таковы наиболее общие соображения инока Андроника, на языке «научной» философии выразившего основы учения Православной Церкви о именах, связанные прежде всего с опытом умного делания, исихазма. Рассматривая с этой точки зрения присвоение послепетровскими (может быть, кроме Елизаветы Петровны, которая, впрочем, по допетровскому правовому обычаю не могла наследовать Престола) Императрицами и Императорами инобытийного для них имени Романовых, мы не можем не прийти к выводу, что речь идет о подлинной катастрофе, сопоставимой с расколом, а затем с собором 1666 года и упразднением Патриаршества. Приведем в этой связи еще одно развернутое высказывание инока Андроника, по сути, проливающее свет на происходившее с «новыми Романовыми» — Голштин-Готторпской династией:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: