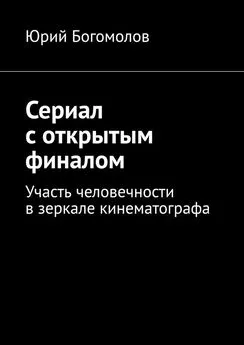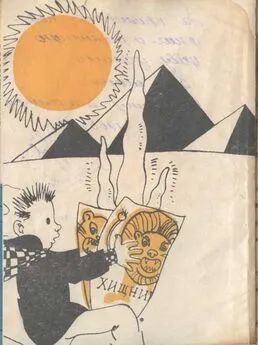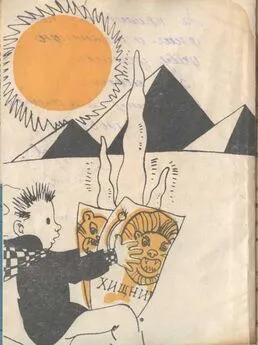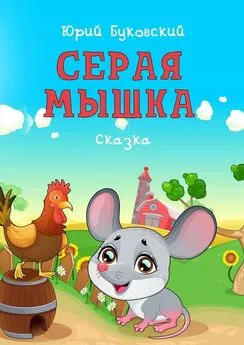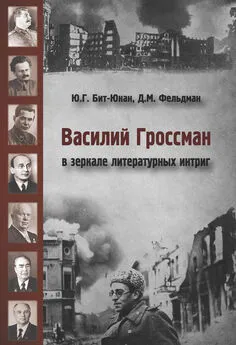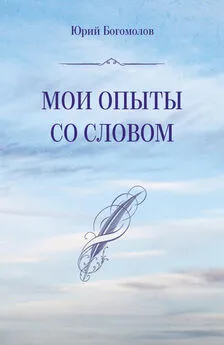Юрий Богомолов - Сериал с открытым финалом. Участь человечности в зеркале кинематографа
- Название:Сериал с открытым финалом. Участь человечности в зеркале кинематографа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005685025
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Богомолов - Сериал с открытым финалом. Участь человечности в зеркале кинематографа краткое содержание
Сериал с открытым финалом. Участь человечности в зеркале кинематографа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«С десятью миллионами, – сказал он, подняв руки. – Это было что-то страшное, это длилось четыре года, но для того, чтобы избавиться от периодических голодовок, России было абсолютно необходимо пахать землю тракторами. Мы должны механизировать наше сельское хозяйство. Когда мы давали трактора крестьянам, то они приходили в негодность через несколько месяцев. Только колхозы, имеющие мастерские, могут обращаться с тракторами. Мы всеми силами старались объяснить это крестьянам. Но с ними бесполезно спорить. После того как вы изложите все крестьянину, он говорит вам, что должен пойти домой и посоветоваться с женой, посоветоваться со своим подпаском».
Это последнее выражение было новым для меня в этой связи.
«Обсудив с ними это дело, он всегда отвечает, что не хочет колхоза и лучше обойдется без тракторов».
«Это были люди, которых вы называли кулаками?»
«Да», – ответил он, не повторив этого слова.
После паузы он заметил: «Все это было очень скверно и трудно, но необходимо».
«Что же произошло?» – спросил я.
«Многие из них согласились пойти с нами, – ответил он. – Некоторым из них дали землю для индивидуальной обработки в Томской области, или в Иркутской, или еще дальше на север, но основная их часть была весьма непопулярна, и они были уничтожены своими батраками».
Наступила довольно длительная пауза. Затем Сталин продолжал:
«Мы не только в огромной степени увеличили снабжение продовольствием, но и неизмеримо улучшили качество зерна. Раньше выращивались всевозможные сорта зерна. Сейчас во всей нашей стране никому не разрешается сеять какие бы то ни было другие сорта, помимо стандартного советского зерна. В противном случае с ними обходятся сурово. Это означает еще большее увеличение снабжения продовольствием».
Я воспроизвожу эти воспоминания по мере того, как они приходят мне на память, и помню, какое сильное впечатление на меня в то время произвело сообщение о том, что миллионы мужчин и женщин уничтожаются или навсегда переселяются. Несомненно, родится поколение, которому будут неведомы их страдания, но оно, конечно, будет иметь больше еды и будет благословлять имя Сталина. Я не повторил афоризм Берка: «Если я не могу провести реформ без несправедливости, то не надо мне реформ». В условиях, когда вокруг нас свирепствовала мировая война, казалось бесполезным морализировать вслух» ( Черчилль У. Вторая мировая война.Том IV, часть вторая, глава пятая).
Пространная цитата из воспоминаний Черчилля нужна, чтобы дать представление о том, как выглядела победная коллективизация с высоты кремлевского Олимпа. И чтобы ее можно было сравнить с показаниями «свидетелей счастливых».
Сегодня, когда ужасы гражданской войны с крестьянством позади, мы время от времени морализируем вслух и с экрана телевизора по поводу цены проведенной коллективизации.
Для начала напомним, что ответил Сталину с Черчиллем наш современник – политолог Кургинян.
Нет, он не стал отрицать факты преступлений в ходе гражданской войны на селе. Да, они были. Их невозможно отрицать. Правда, они были не в тех масштабах, о каких твердят либералы. Счет, мол, должен идти (тут политолог поправил не только либералов, но и товарища Сталина) не на миллионы, а на сотни тысяч жизней. Конечно, это все равно ужасно, это больно, это трагично (на лице политолога с актерскими задатками является гримаса сострадания).
Кроме того, развивает свою мысль Кургинян, идея коллективизации дискутировалась и до большевиков. Стало быть, по мысли политолога, у уничтожения крестьянства как класса есть корни. А первому из большевиков, как бы ненароком роняет Кургинян, она пришла в голову не Сталину, а «иудушке» Троцкому. И дальше: независимо от того, сколь глубоки были корни и чья была идея, советский народ оказался обреченным на ту модернизацию, которая звалась коллективизацией.
Против исторической нужды не попрешь – таков решающий аргумент в оправдание миллионов погубленных душ. Он, Сергей Ервандович Кургинян, не оправдывает преступления против человечности, он защищает историю, ее сложность в интересах в том числе и тех, кто сгнил на просторах Родины чудесной от Белого моря до Берингова пролива. Ибо иначе что они должны думать там? Что их мучительная, позорная смерть оказалась бессмысленной? А так, с его точки зрения, получилась вполне себе оптимистическая трагедия, которая даст сто очков вперед той, что сочинил в свое время Всеволод Вишневский.
Заручившись поддержкой мертвых, политолог апеллирует к живым. Логика его такова: если признать, что коллективизация была ошибкой, значит, и история страны оказалась ошибочной.
Его последний аргумент – стихотворение Максимилиана Волошина «Северо-Восток», которое он прочел с выражением. В нем в образной форме запечатлена история России, для которой «ветер смут, побоищ и погромов, медных зорь, багряных окоемов, красных туч и пламенных годин» был «верным другом на «распутьях всех лихих дорог».
Опускаю несколько строчек. И цитирую самое ударное, с точки зрения Кургиняна:
«В этом ветре вся судьба России —
Страшная, безумная судьба.
В этом ветре гнет веков свинцовых:
Русь Малют, Иванов, Годуновых,
Хищников, Опричников, Стрельцов,
Свежевателей живого мяса,
Смертогонов, вихря, свистопляса:
Быль царей и явь большевиков».
Кургинян читает страстно, гордясь историей страны, но обрывает стих Волошина на самом интересном месте.
Продолжу:
«Ныне ль, даве ль? – все одно и то же:
Волчьи морды, машкеры и рожи,
Спертый дух и одичалый мозг,
Сыск и кухня Тайных Канцелярий,
Пьяный гик осатанелых тварей,
Жгучий свист шпицрутенов и розг,
Дикий сон военных поселений,
Фаланстер, парадов и равнений,
Павлов, Аракчеевых, Петров,
Жутких Гатчин, страшных Петербургов,
Замыслы неистовых хирургов
И размах заплечных мастеров.
Сотни лет тупых и зверских пыток,
И еще не весь развернут свиток,
И не замкнут список палачей,
Бред Разведок, ужас Чрезвычаек —
Ни Москва, ни Астрахань, ни Яик
Не видали времени горчей».
Стихотворение датировано 1920 годом. Времена «горчей» были впереди. О них поведал крестьянский поэт Николай Клюев.
«За кус говядины с печенкой
Сосед освежевал мальчонку
И серой солью посолил
Вдоль птичьих ребрышек и жил.
Старуха же с бревна под балкой
Замыла кровушку мочалкой.
Опосле, как лиса в капкане,
Излилась лаем на чулане.
И страшен был старуший лай,
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: