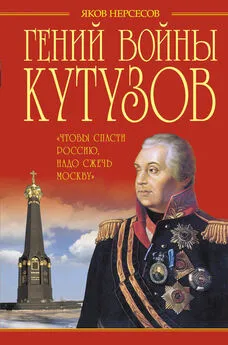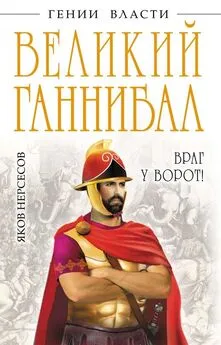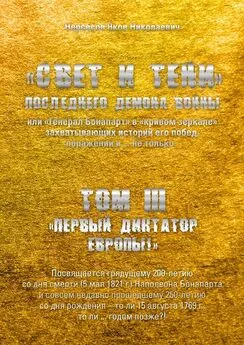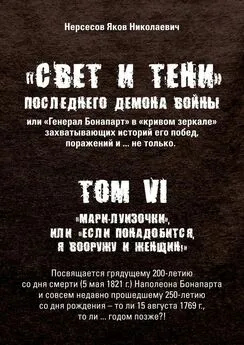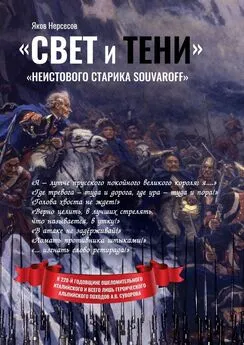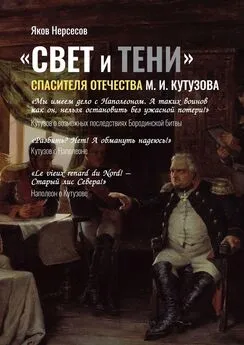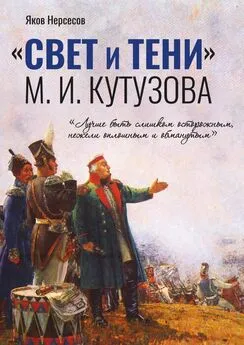Яков Нерсесов - «Свет и Тени» врагов, «совместников/совместниц», «коллег по ремеслу» и… не только генерала Бонапарта. Книга 1: от А до Л
- Название:«Свет и Тени» врагов, «совместников/совместниц», «коллег по ремеслу» и… не только генерала Бонапарта. Книга 1: от А до Л
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005684394
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Нерсесов - «Свет и Тени» врагов, «совместников/совместниц», «коллег по ремеслу» и… не только генерала Бонапарта. Книга 1: от А до Л краткое содержание
«Свет и Тени» врагов, «совместников/совместниц», «коллег по ремеслу» и… не только генерала Бонапарта. Книга 1: от А до Л - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Правда, Е.И.В. с той самой поры весь поход «знал свое место». Только с разрешения Суворова он появлялся в его кабинете, причем, входил на цыпочках и молча слушал рапорты и приказы командующего, если спрашивали его мнение, то высказывался и весьма толково. Александр Васильевич счел вздрючку достаточной и в своих донесениях императору считал нужным похваливать царского сына. И тот действительно отличился при Нови, за что и получил от своего строгого батюшки орден Св. Иоанна Иерусалимского и 50 тыс. рублей – деньги по тем временам огромные. Наравне со всеми Константин Павлович преодолевал все тяготы Швейцарского похода, когда при переходе через Альпы одна треть (правда, не все согласны с такой цифрой) русских солдат погибла от голода, холода, сорвавшись в пропасти или в жестоких штыковых атаках на горных перевалах. Все это время Великий Князь шел пешком в авангарде Багратиона, правда, за ним – царским сыном – хорошенько приглядывали и адъютанты, и дюжие казаки. Как-никак это была не гатчинская потеха, а война по-суворовски: стремительно и решительно – бескомпромиссно! В Муттенской долине Константин на свои деньги (за 40 червонцев) купил для солдат две грядки картошки – хоть как-то скрасившие их полуголодный быт. После необыкновенно пронзительно-патриотической речи Суворова поредевшие русские войска собрались с последними силами и вырвались из французского полуокружения. Русский Марс получил от благодарного Павла I генералиссимуса, а Константин Павлович – титул цесаревича (20.10.1799), который присваивался только и исключительно наследнику престола. Не исключено, что этим придворным «маневром» отец-император мог намекать – кого он на самом деле видел своим наследником!? Недаром же, он лично написал сыну: «Герой, приезжай назад…» По возвращении он приветливо трепал сына по щеке (что было признаком его особого расположения!) , обнимал, публично звал героем и даже советовался с ним по вопросам удобства военного обмундирования, на что тот правдиво отвечал: прусская форма для ведения войны по-суворовски, т.е. мобильно – не подходит никак. Отец разозлился, впал в амбиции и лишил новоиспеченного цесаревича своего царского благоволения, отправив его с глаз долой – муштровать разболтавшихся кавалергардов (или все же, лейб-гвардии Конный полк?) – «белую кость» царской гвардии. Так бывает: от любви до ненависти – один шаг, и с императорами, в том числе. Как результат, в Константине Павловиче, преодолевшем все тягости и ужасы Итальянского и особенно Швейцарского походов без всякого послабления, вновь проснулся животный страх перед непредсказуемым отцом. И он сам принялся лютовать среди кавалергардов, правда, с оглядкой: в ту пору на военном суде любой корнет мог легко засудить гвардейского полковника, но все же, не цесаревича.
Спустя год императора Павла не стало. Если Александр Павлович был посвящен в заговор и во многом с его молчаливого согласия он состоялся, то подобная причастность Константина остается под вопросом. Император Павел был непредсказуем, но и его средний сын то же не отличался логичностью решений. Не исключено, что знай он о заговоре против отца, которого он жутко боялся, то мог и попытаться отговорить старшего брата от подобной авантюры. А это никак не входило в замыслы главы заговорщиков петербуржского генерал-губернатора, графа П. А. Палена: «легитимность» заговора во многом держалась на молчаливом согласии старшего сына императора. Известно только, что Константин по «его собственным словам» в ту ночь крепок спал! И это после ареста отцом Александра и Константина (!?), их вторичной присяги (!?), особо напряженного последнего вечернего разговора отца со своими сыновьями-«цесаревичами» (!?) и, тем более, приказа Константина вверенному ему кавалергардскому полку быть в ту ночь в состоянии боевой готовности, т.е. зарядить карабины и пистолеты боевыми патронами!? Впрочем, так бывает…
Рассказывали, что после всего случившегося, увидев по утру собравшихся в одной из зал Зимнего дворца взвинчено-пьяных офицеров-участников ночных событий, Константин Павлович навел на них лорнет и «как будто про себя, но громко» сказал: «Я всех их повесил бы». Вряд ли бы участник заговора отозвался бы так о своих «подельниках». Судя по всему, всю оставшуюся жизнь память об отце не жгла угрызениями совести его душу, в отличие от его старшего брата – косвенного отцеубийцы. Более того, и спустя годы он уверенно повторял, что ни за что не станет русским царем, поскольку это равносильно подписанию смертного приговора. При этом он прибавлял: «Меня задушат, как задушили отца».
Потом с Константином случился еще один «реприманд неожиданный»: с ним рассталась его супруга – слишком разными они были людьми. Тем более, что их «оженили» слишком в раннем возрасте по сугубо династическим причинам, а такие браки крайне редко бывают счастливым. Анна Федоровна, которая уже предпринимала попытки сбежать от мужа к себе на родину, но пока был жив император Павел I ей это не удавалось, уже летом 1801 г. покинула Россию навсегда. Ей претила атмосфера постоянной казармы, которую привносил в ее быт муж-фрунтовик. Тем более, что их ребенок родился мертвым, а Константин не отличался супружеской верностью, в частности, крутил бурный роман с очаровательной польской княжной Еленой Любомирской. Жена Константина Павловича прожила очень долгую, размеренную и уединенную жизнь в Швейцарии (сначала в роскошном замке Шатле де ля Буасьер под Берном, потом – в Женеве), скончавшись много позже своего мужа-«фрунтовика» – лишь в 1860 г. Последний пару раз попытался было уговорить ее вернуться в Россию, но как-то не очень-то и навязчиво: он предпочитал посещать другие «аулы». Сначала он утешился с очередной прелестной полькой Жанеттой Четвертинской – сестрой фаворитки своего брата Марии Антоновны Нарышкиной. Константин даже порывался жениться на ней, но его матушка, вдовствующая императрица Мария Федоровна, имевшая серьезное влияние на всех своих сыновей, наложила на этот брак свое категорическое материнское вето.
В 1806 г. на «место», «получившей отставку», Жанетты заступила другая чувственная дамочка без определенных занятий – некая очень расторопная француженка Жозефина Фридрикс с весьма мутной биографией, но очень выразительно-многообещающим взглядом черных глаз. Она оказалась более удачлива: на долгие годы (до 1820 г.!) став постоянной спутницей взбалмошно-ортодоксального цесаревича. Тот, как истинный кавалергард, никогда не берущий с женщин денег, использовал ее по назначению, в том числе, …травил собачкой и это еще была самая невинная из «забав», которые устраивал со своей новой «спутницей по жизни» (это еще литературно выражаясь) цесаревич. Веселая и непринужденная «воструха» (Константин очень любил это емкое и лаконичное словечко применительно к женщинам, в частности, так «величал» свою амбициозную сестричку Екатерину, «завострившую» самого Багратиона и по слухам, «клавшая глаз» на еще одну культовую фиугру в русской армии той поры – крутого артиллериста От Бога Алексея Петровича Еромлова, человека больших возможностей!) Жозефина, немало повидавшая на своем веку богатых мужчин-забавников-шалунов-безобразников, согласилась на незавидную, но сытую и обеспеченную жизнь – то ли девки, то ли шутихи при русском барине-самодуре. Вскоре сметливая «мастерица на все руки» (мужчины всегда выделют среди слабого пола именно такую категорию женщин-«флейтисток» -«кларнетисток» и прочих «…тисток») сумела стать столь нужной своему царственному благодетелю, что тот «пошел на поклон» к своей матушке за разрешением на развод с Анной Федоровной и благословлением на брак с французской «легкой кулевриной» (так в ту пору в армейской среде Европы той поры «величали» всегда готовых к «огневому контакту» дам полусвета). Но императрица-мать снова наложила свое вето, а Константин, как, впрочем, и его старший брат Александр, дальновидно предпочитал ей не перечить. Так или иначе, но 24 марта 1808 г. наша французская «воструха» (позднее «переквалифицировавшаяся» в русскую дворянку Ульяну Михайловну Александрову) родила Константину сына, которого тот признал и обеспечил прекрасную карьеру под именем Павла Александрова. Различные авторы-современники о нем писали по-разному. И все же, тот стал лейб-гвардейцем и генерал-адъютантом, а в целом – добрым малым без намеков на чудачества и эксцентрику своего отца-цесаревича.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: