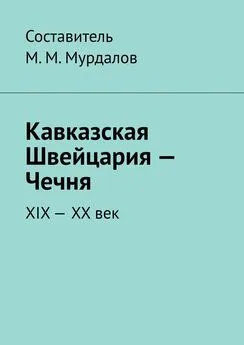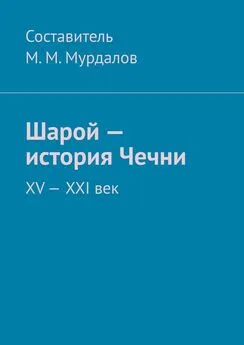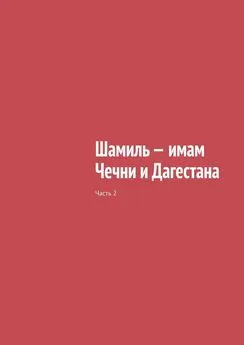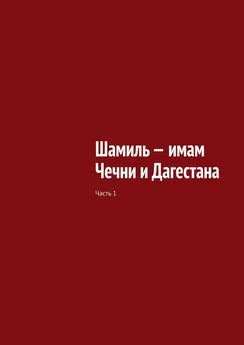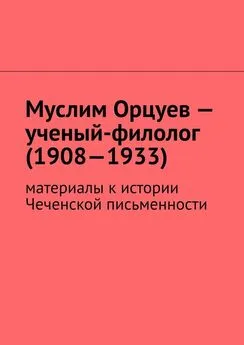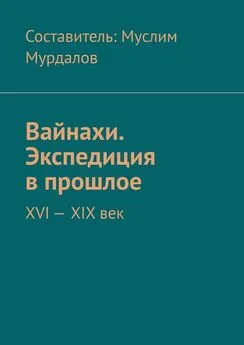Муслим Мурдалов - Кавказская Швейцария – Чечня. XIX-XX век
- Название:Кавказская Швейцария – Чечня. XIX-XX век
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449041982
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Муслим Мурдалов - Кавказская Швейцария – Чечня. XIX-XX век краткое содержание
Кавказская Швейцария – Чечня. XIX-XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Точно так, как это бывает у некоторых других кавказских народов, напр., у соседних хевсур, и в Чечне жители одного аула носят одну общую фамилию и отличаются только именами: Багор, Шугаиб, Паскоч, Эльмурза, Дада, Мурад, Абубакар, Хулай и др. Многие имена позаимствованы из царства животных, как напр., Борс (волк), Чебурс (медведь), Нагал (заяц), Лом (Лев), Эрзу (орел), Лег (сокол), Чеми (кобчик), Хокши (голубь), Хозу (ворона); из растительного мира взято: Хошо (дуб) и др. У женщин часто бывают те же имена, как и у мужчин, но есть несколько весьма поэтичных, как то: Джовхар (алмаз), Малейка (ангел), Дзиезок (цветок), Медина и др.
Чеченцы с хевсурами имеют еще один общий дикий обычай – кровную месть. Доказательством того, насколько фанатично они поддерживаются этого обычая, может служить тот факт, что во время пребывания в Грозном в тамошней тюрьме скончался старик восьмидесяти лет от роду, приговоренный незадолго перед тем за это преступление к восьмилетней каторге. Даже глубокая старость не могла унять в нем эту дикую страсть.
Чеченцы, как известно, – магометане-сунниты. Мечети у них почти не отличаются от других домов, минаретов не видать. Будун (муэдзин) выходит на площадку перед мечетью или на крышу ее и приглашает правоверных к молитве. Намаз совершается весьма добросовестно, как и обмывания; вообще чеченцы очень ревностные магометане. Неудивительно поэтому, что среди них много сектантов (тарикатистов) . Одна из этих сект – так называемые кунтисты, получившие название от муллы Кунта-Хаджи. Мы рассказали про них следующее. В середине шестидесятых годов появился названный Кунта-Хаджи с учением такого содержания, что зикру , т. е. хвалу Аллаху, следует выкрикивать громко. Приверженцы этого учения для совершения молитвы собираются в круг и, в наступлении вертясь, выкрикивают все скорее и скорее: Ля Ильляхи Иль Аллах (нет Бога кроме Аллаха), причем неистово хлопают в ладони. Так как секта эта преследовала политические цели, то пришлось ее подавить силой оружия. В семидесятых годах кунтисты, желая добиться признания своей секты, грозили взяться за оружие, если им этого не разрешать. Когда пришли русские солдаты, чтобы привести их к порядку, кунтисты с криком Ля Ильлахи Иль Аллах бросились им навстречу, в полном убеждении, что никакие пули ранить их не могут. Теперь эта секта разрешена правительством и имеет много приверженцев в Чечне и Дагестане. Кунтистов можно узнать по четкам (для счета молитв), которые они носят на шее, и еще по тому, что при встрече друг с другом они обнимаются. Три раза в году они совершают паломничество к могиле Кунта-Хаджи у горы Эрден-Корт. – Другая, менее распространенная секта – нак-шубанди, получившая название от бухарского святого, похороненного в Теке. (Закаспийская Область). При вечерней молитве у них 500 раз произносят: Ля Ильляхи Иль Аллах! И потом еще 100 раз хвалу Магомету, говеют еженедельно по понедельникам и вторникам и т. д.
Высшее желание каждого чеченца – посетить хоть раз в жизни святыни в Мекке и Медине, и каждый год значительное число их отправляется туда; напр., в прошлом году более сорока человек отправилось туда, чтобы получить прозвание «хаджи» и право ношения белой чалмы.
Хотя все почти аулы Большой и Малой Чечни уже в 1857 и 1858 годах отпали от Шамиля и добровольно сдались русским, жители их все-таки еще до нашего времени высоко чтят память имама. Большим же еще почетом пользуется сын его Кази-Магома, живущий в Медине. Его вообще гораздо больше любили, чем деспотического отца, который под конец стал предъявлять слишком строгие требования к своим приверженцам. Мне удалось записать в ауле Ригахой песню, которую туземный распрод пропел грустным напевом под аккомпанемент «пандуры», трехструнного инструмента. Эта песня помимо своего содержания интересна также в том отношении, что мы по ней видим, как создаются настоящие народные песни, потом передающиеся из уст в уста. Так, напр., кто-нибудь задает, так сказать, тему или мотив одним двумя стихами, а другие по очереди прибавляют к теме новые, того же характера и смысла. Как это обыкновенно бывает в поэзии народной, так мы и тут видим элегическое настроение. Привожу для примера несколько строф в прозе:
«Кази-Магома! Горы наши когда-то принадлежали родителю твоему, они были под властью его, – теперь же они во власти русских, которые держат их крепко в своих руках. Не можешь ли ты устроить, чтобы они опять были нашими?»
«Кази-Магома! Благородные кони отправлялись с отцом твоим в кровавую битву; теперь русские их запрягают в повозки и заставляют таскать тяжести. Ах, если бы ты на боевом коне мог восстановить опять власть имама!»
«Кази-Магома! Острые мечи, которые обнажал имам и верные слуги его в бою, висят теперь праздно, покрытые ржавчиной и пылью, в чертогах русских властей. Не можешь ли ты опять обнажить их и восстановить их блеск?»
«Горы у Ботлиха, куда отец твой принимал свои походы и которые ему были священны, теперь осквернены ломом и взрывами и всем открыта туда дорога. Не можешь ли ты опять сделать их недоступными?» и т. д.
Из Ригахоя (6500) дорога к озеру Эзень-Ам ведет через невысокий перевал острогов хребта Каткер-Лам (9037), спускаясь потом к широкой болотистой долине между названным хребтом и Керкетскими горами. Горы слегка были покрыты снегом, на отлогих склонах паслась баранта, а ниже – лошади, коровы и козы. Ядовитое растение Veratrum, встречающееся почти на всех альпийских лугах, тут всюду было объедено, чего я до сих пор нигде не видел, так как животные уже по инстинкту не трогают ядовитых растений. На вопрос мой ответили, что растение это действительно весьма вредно и даже губительно для лошадей и коров, но что козы и овцы едят его без всяких дурных последствий. Кстати скажем, что жители этих местностей кладут листья этого самого растения в молодой сыр для усиления брожения.
Скоро мы доехали до ручейка Энхи, который своими многочисленными извилинами часто пересекал наш путь; по берегам его местами навалено было во время половодья множество белых известковых камней. Энхи впадает в озеро Эзень-Ам. Недалеко от него наша узкая тропа соединяется с «царской дорогой», спускающейся с Керкетского перевала (6993), на котором красуется каменная пирамида в память посещения императора Александра II, бывшего здесь в 1871-м году. Там, где «царская дорога» соединяется с нашей дорогой, ясно бросаются в глаза конечные морены громадного ледника, наполнявшего когда-то долину, по которой мы проехали. За этими моренами начиналось когда-то озеро, теперь отступившее значительно назад. Дорога идет вдоль западного берега озера; местами высеченная в скале, она сперва подымается довольно высоко над водой. Озеро с темно-голубой водой окружено известковыми скалами. При свете утреннего солнца слегка волнующаяся поверхность его сверкает, как будто усеянная миллиардами алмазов; легкий прибой волн обладает водой белые, как снег, осколки известковых скал, покрывающие отлогие берега. Ясно виднеются на берегу уступы, показывающие, как вода мало-по-малу отступала. Тут мы нашли несколько окаменелостей, несколько штук Ostraea и довольно большой аммонит. Около берега, на менее глубоких местах поднимаются над водой розовые цветы Polygonumamphibiumnatans; изредка в прозрачной воде заплещет рыба. Лакс-форель, черная с красными пятнами – единственная рыба, которая водится в озере и не в большом количестве, как мне кажется. Зимою, когда озеро покрыто льдом, она легче ловится, чем летом. В прошлую зиму здесь поймали рыбу почти трех футов длины в 27 фунтов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: