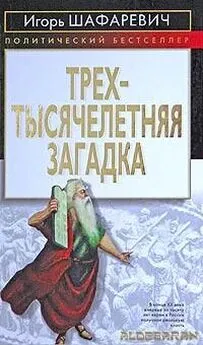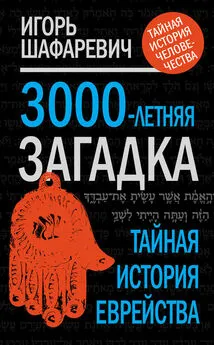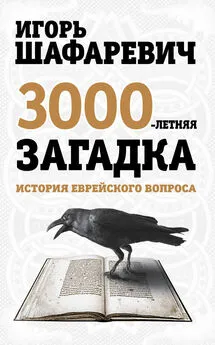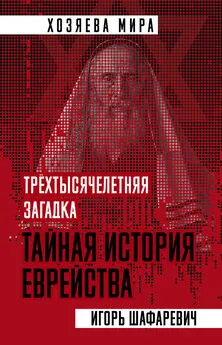Игорь Шафаревич - Трехтысячелетняя загадка
- Название:Трехтысячелетняя загадка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Библиополис
- Год:2002
- Город:Псков
- ISBN:5-94542-023-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Шафаревич - Трехтысячелетняя загадка краткое содержание
Так называемый еврейский вопрос, которому уже не одно тысячелетие, дожил и до наших дней. Хотя попытки разрешить его предпринимались в разные эпохи в самых разных странах. Делаются они и теперь. Выдающийся мыслитель нашего времени Игорь Ростиславович Шафаревич, исследовав еврейский вопрос, пришёл к выводу, что он всегда возникал, когда дело касалось захвата власти. Так было в Египте и Персии, в Риме и древней Хазарии, а в не столь отдалённом прошлом и в России.
Трехтысячелетняя загадка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Необходимо ещё отметить, что коллективизация совпала с эпохой нового усиления гонения на религию и особенно на Православную Церковь. Было даже постановление Политбюро, указывавшее одновременно с организацией колхоза закрывать в деревне церковь. Антирелигиозной кампанией руководил Ярославский (Губельман), глава «Союза Воинствующих Безбожников»: была объявлена «Безбожная пятилетка», в конце которой «имя Бога не будет произноситься в нашей стране». (Стоит сопоставить с тем, что в 20-е годы борьбой с Православной Церковью руководил Троцкий, а ближайшим помощником его был Шпицберг.) При посещении Горьким Америки в 1922 г. состоялось его интервью с Шолом-Ашем. Тот был обеспокоен слухами о «растущем антисемитизме» в России и сказал:
«Все евреи без исключения считают, что было бы величайшей бедой, которая привела бы к страшной резне, если бы, не дай бог, власть перешла в другие руки. Огонь антисемитизма пылает в России, как никогда, и стоит только пошатнуться большевистской цитадели, как будет принесено в жертву всё еврейское её население».
Горький согласился и ответил, что напрасно еврейские большевики участвуют в осквернении русских святынь:
«Русский мужик хитёр и скрытен. Он тебе на первых порах состроит кроткую улыбку. Но в глубине души затаит ненависть к еврею, который посягнул на его святыни… Еврейские большевики должны были оставить эти дела для русских большевиков… Ради будущего евреев в России надо предостеречь еврейских большевиков: держитесь подальше от святынь русского народа! Вы способны на другие, более важные дела».
Шолом-Аш продолжает:
«Я обратил его внимание на то, что еврейские большевики не щадят не только русских святынь, но и еврейских. Он сказал, что знает об этом и считает, что борьба с древнееврейским языком, с синагогами, тем более, с лучшим театром России (! — И. Ш.) , древнееврейским театром „Габима“ — есть не что иное, как идиотство и варварство».
(Тут Горький не давал советов вроде того, чтобы оставить это русским большевикам.)
Второй причиной антисемитизма Горький считал зависть русских к более талантливым и работоспособным евреям:
«Россия не может быть восстановлена без евреев, потому что они являются самой способной, активной и энергичной силой».
Если под восстановлением России понимать укрепление коммунистической власти (включая коллективизацию), то это наблюдение подтверждается фактами. Еврейство оказывало поддержку, жизненно необходимую коммунистической власти, далеко не только через участие в НКВД. Не меньшее значение имела идеологическая поддержка. Она была многогранна. Рассмотрим пример литературы. За 20-е и 30-е годы возникла целая литература, пропагандировавшая действия власти, стремившаяся создать соответствующую им духовную атмосферу. Например, коллективизации и раскулачиванию предшествовало литературное течение, стремившееся привить ненависть к деревне и крестьянину, причём всё это обнималось образом «Старой Руси», «Рассеюшки». Конечно, это течение литературы, обслуживавшее власть, состояло далеко не из одних евреев, как не одни они служили и в ЧК, и в НКВД. Но поражает и в этом случае непропорциональное количество еврейских имён, и азарт, как кажется искреннее сочувствие, с которым они ринулись на это поле деятельности. Из тех, кто стал известен ещё до революции, Пастернак и Мандельштам стали своими людьми в салонах советско-еврейской верхушки. У представителей русской литературы судьба была другой. Маяковский рвался идти тем же путём, но не выдержал. Горький был 10 лет эмигрантом, потом вернулся. (Что, хотя бы отчасти, я думаю, связано с его патологической ненавистью к деревне и крестьянину. Его возвращение и совпало со «сплошной коллективизации».) Есенин, в поэмах 1918 г., отразил чувство тогдашних коммунистических верхов, «штурмовавших небо», переделывавших мир: логику («диалектику») и даже эстетику насилия и уничтожения. Но после этого изолированного периода вся социальная сторона его поэзии была сплошным стоном боли. И как ни объяснять его смерть, ясно, что в той жизни он существовать не мог (например, на него было заведено несколько, кажется, 8 дел, часть с обвинением в «антисемитизме», в те годы расстрельным). И уж совсем не стали «поэтами власти» Ахматова, Цветаева, тем более Гумилёв, Клюев. Но после революции в литературу вступило новое поколение. И вот среди них Булгаков и Платонов были гонимы всю жизнь (и, в значительной степени, еврейскими деятелями), Павел Васильев расстрелян. Шолохов пользовался благосклонностью власти. Но «Тихий Дон» никакие назовёшь просоветским произведением. Почему его печатали (при всех правках) — это и есть, мне кажется, истинная «загадка Шолохова».
А, с другой стороны, целый поток еврейских имён самого разного уровня талантливости и просто способностей, ревностно служивших власти. Например, Джек Альтаузен, Алигер, Бабель, Багрицкий, Безыменский, Билль-Белоцерковский, Гроссман, Данин, Ильф, Исбах, Каверин, Казакевич, Кирсанов, Крон, Мандельштам, Пастернак, Рыбаков, Светлов, Серебрякова, Сельвинский, Славин, Уткин, Шатров, Шейнин, Ясенский. А долгое время их «политкомиссаром» был Авербух. Тут удивительно то, как сочетается искренняя любовь к власти и творимым ею делам с сильным национальным чувством. И даже не сочетается, а объединяется (приведённые выше стихи Алигер, трогательное посещение раввина у политработника Бабеля, баллада о «рыжем Мотеле» Уткина и т. д.). Пожалуй, наиболее ярко это объединение выражается у одного из наиболее талантливых из них, Багрицкого. Он тоньше других почувствовал пафос того, что, как надеялись, происходит: полной перекройки мира по воле властителей новой жизни. И полной смены для этого и эстетики, и этики:
Но если он скажет:
«Солги!» — солги,
Но если он скажет:
«Убей!» — убей.
Все знают его стихи:
Их нежные кости сосала грязь,
Над ними захлопывались рвы,
И подпись на приговоре вилась
Струёй из простреленной головы.
Конечно, любая власть (а особенно, власть такой мощи!) увлекает толпы людей, готовых ей служить (кто за страх, а кто за совесть). И среди этих толп было много и русских. И, в частности, творивших эту новую эстетику уничтожения и расстрела. Но вот у Маяковского: Белогвардейца поймали и к стенке! А Рафаэля забыли, забыли Растрелли вы… — как-то беззубо расстрел переносится на картины и здания. Были чьи-то стихи, что «человек рождён для расстрела», но забылись. А Багрицкий справедливо в этом течении занял место классика. И в последней, предсмертной, своей поэме «Февраль» он рассказывает об изнасиловании русской девушки. Национальное самоощущение «лирического героя» резко подчёркнуто:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: