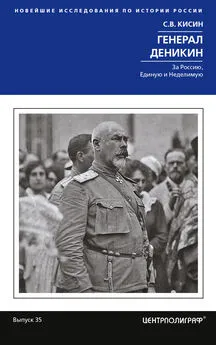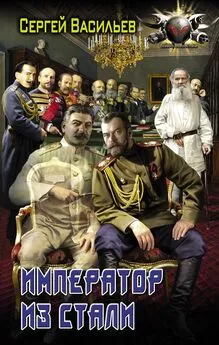Сергей Кисин - Император Николай I и его эпоха. Донкихот самодержавия
- Название:Император Николай I и его эпоха. Донкихот самодержавия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-08953-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Кисин - Император Николай I и его эпоха. Донкихот самодержавия краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Император Николай I и его эпоха. Донкихот самодержавия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сам Николай так впоследствии отзывался о своих преподавателях: «Два человека, очень добрые, может статься, и очень ученые, но оба несноснейшие педанты: Балугьянский и Кукольник. Один толковал нам на смеси всех языков, из которых не знал хорошенько ни одного, о римских, немецких и, Бог знает, каких еще законах; другой – что-то о мнимом «естественном» праве. В прибавку к ним являлся еще Шторх с своими усыпительными лекциями о политической экономии, который читал нам по своей печатной французской книжке, ничем не разнообразя этой монотонии. И что же выходило? На уроках этих господ мы или дремали, или рисовали какой-нибудь вздор, иногда собственные их карикатурные портреты, а потом к экзаменам выучивали кое-что вдолбяжку, без плода и пользы для будущего».
Пожалуй, наиболее удачной кандидатурой стал рекомендованный Осипом Дерибасом генерал-майор Николай Ахвердов, преподававший историю, географию и математические науки. По мнению Модеста Корфа, «Ахвердов был лучшим из приставленных к великим князьям кавалеров; он более других имел основательности в своих взглядах и направлениях, а из ежегодно представлявшихся кавалерами журналов об успехах и поведении августейших воспитанников его журналы всего интереснее, заключают в себе наиболее подробностей и доказывают наблюдательность автора и его умение делать выводы из описываемых фактов. Он всеми средствами старался доставить своим воспитанникам пользу. Хотя императрица Мария Федоровна старалась отвлечь своих сыновей от излишней склонности ко всему военному, и сам Ахвердов не был, в сущности, военным человеком, однако он иногда, из желания доставить удовольствие своим воспитанникам, сам учил их строить и рисовать крепости, делал из воска бомбы и ядра, показывал, как надо нападать на гавани и защищать их; когда же воспитанники начинали барабанить, он приказывал закрывать барабаны платками, чтобы хоть несколько заглушить нестерпимые для него звуки». Да и сами дети спозаранку уже принимались за военные фортеции, командовали оловянными и фарфоровыми армиями, гоняли деревянную кавалерию, маршировали с игрушечными алебардами и трубами. Пока не пришли воспитатели и не начали из педагогических соображений лупить великих князей высочайшими лицами о государственную стену.
Общий смысл воспитания сводился в изложении самого Николая к следующему: «Граф Ламздорф умел вселить в нас одно чувство – страх, и такой страх и уверение в его всемогуществе, что лицо матушки было для нас второе в степени важности понятий. Сей порядок лишил нас совершенно счастья сыновнего доверия к родительнице, к которой допущаемы мы были редко одни, и то никогда иначе, как будто на приговор. Беспрестанная перемена окружающих лиц вселила в нас с младенчества привычку искать в них слабые стороны, дабы воспользоваться ими в смысле того, что по нашим желаниям нам нужно было, и должно признаться, что не без успеха». Страх и лицемерие – вот доминанты педагогики двух «павловских» малышей. Какими после этого они могли вырасти?
Как замечал самый известный исследователь царствования будущего Николая Палкина генерал-лейтенант Николай Шильдер: «Установившаяся тогда система воспитания была суровая, и телесные наказания играли в ней большую роль. Такими мерами тщетно старались обуздывать и исправлять порывы строптивого и вспыльчивого характера Николая Павловича. Испытанные им в детстве педагогические приемы принесли и другие печальные плоды; они, несомненно, повлияли на миросозерцание будущего венценосца, который впоследствии провел подобные же суровые начала в воспитание современного ему подрастающего поколения».
Иными словами, преподаватели строго блюли желания августейшей четы – младшие сыновья ни в коем случае не должны были стать заметными фигурами на политической сцене, дабы не расстраивать своих родителей. Их не готовили ни царствовать, ни умирать за трон. «Шалопаев» из великих князей не получилось.
Разворот телеги
Маловероятно, чтобы Павел I смог оказать хоть сколько-нибудь заметное влияние на воспитание и мировоззрение младших сыновей. Слишком уж мало он правил, и по малолетству дети просто не успели оценить его надежд относительно них. Собственно, они его практически не запомнили и в своих воспоминаниях приводят об отце лишь отрывочные сведения. Вроде объявления войны далекой Испании и намерения сделать испанским королем обалдевшего от такого счастья украинского помещика Кастеля де ла Серду.
«Апоплексический удар» тяжелой золотой табакеркой заговорщика Николая Зубова в императорский висок 11 марта 1801 года также прошел мимо них, не оставив особого трагического следа, как это было у старших братьев, участие в перевороте которых ни у кого не вызывало сомнений. Даже у самой жертвы – не зря Павел в день убийства арестовал обоих сыновей и заставил их повторно присягнуть ему на верность. Александр вообще был в курсе заговора, но лично не желая в нем участвовать и якобы требуя, чтобы отцу сохранили жизнь (Павлу донесли). Только что вернувшийся из суворовских походов Константин тоже был в курсе (Павел знал и это), но активного участия в действиях заговорщиков не принимал. Хотя, по свидетельству очевидцев, когда в полутемной комнате императора началась свалка, и его кто лупил табакеркой, кто душил шарфом, Павел вроде бы опознал в одном из нападавших Константина, адресовав ему последние слова в своей жизни: «Ваше высочество, и вы здесь? Пощадите! Воздуху, воздуху! Что я вам сделал плохого?»
Николай вообще узнал о смерти отца едва ли не мимоходом, услышав от трехлетнего Михаила, как тот играет «в похороны папы» (тоже, вероятно, услышал обрывок разговора от взрослых), хороня игрушечного гренадера.
Для психологии пятилетнего мальчика смерть даже самого близкого человека не является столь уж определяющей трагедией, как для взрослого или даже подростка. В конце концов, рядом была строгая матушка, садисты-воспитатели, старший брат Александр, которого Мария Федоровна подвела к младшим и сказала: «Теперь ты их отец». Тот потрепал младших по щекам и заверил в своей заботе. Собственно, у них на всю жизнь сохранилось о старшем брате впечатление доброго и ласкового родственника. В личных письмах Николай его иначе, как «Ангел», не называет. С Константином у младших тоже сложились хорошие отношения, ибо и у того среди «кавалеров» в детстве значился генерал Ламздорф – товарищи по счастливому воспитанию.
Просвещенный отцеубийца, полный прогрессивных идей юности, по выражению Пушкина, «властитель слабый и лукавый» сразу же заявил о своих намерениях правления: «Батюшка скончался апоплексическим ударом, при мне все будет как при бабушке».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


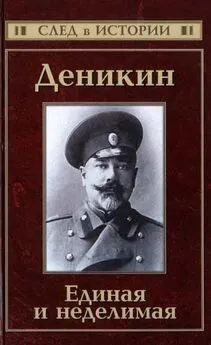
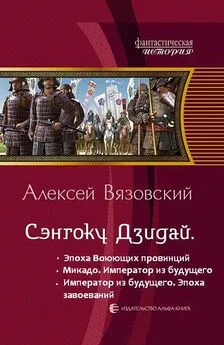
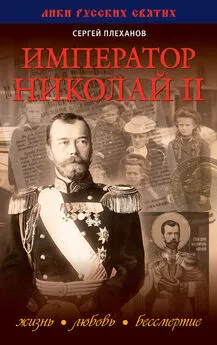
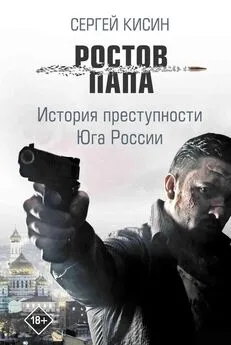

![Сергей Васильев - Император из стали: Император и Сталин. Император из стали [сборник litres]](/books/1150718/sergej-vasilev-imperator-iz-stali-imperator-i-st.webp)