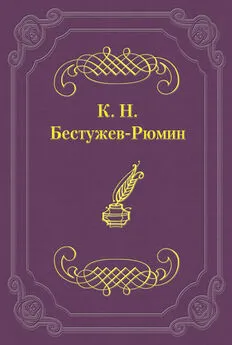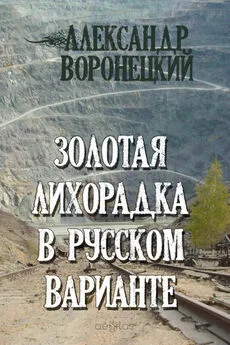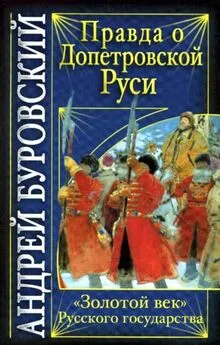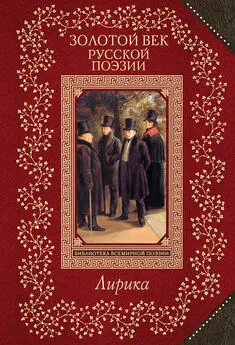Александр Севастьянов - Золотой век русского искусства – от Ивана Грозного до Петра Великого. В поисках русской идентичности
- Название:Золотой век русского искусства – от Ивана Грозного до Петра Великого. В поисках русской идентичности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005557940
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Севастьянов - Золотой век русского искусства – от Ивана Грозного до Петра Великого. В поисках русской идентичности краткое содержание
Золотой век русского искусства – от Ивана Грозного до Петра Великого. В поисках русской идентичности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подстать царю и его окружению были и лошади, на которых двигался весь поезд. «Один из иностранных свидетелей царского выезда писал: „Конского такого наряду и украшения столь драгоценного… ни у каких государей не обретается“» 308. Но так мог высказаться только человек, никогда не видевший султанского выезда, судить о котором позволяет сбруя, выставляющаяся во дворце Топкапы в Стамбуле. Одни только конские подшейные кисти (наузы) из изумрудов величиной с куриное яйцо чего стоят!
Помимо верховых, в процессии участвовали и т.н. «выводные» лошади, иногда свыше сотни, служившие лишь для ее украшения. Секретарь английского посла К. Карлейля, прибывшего в Россию в ферале 1664 года, пишет: «Большинство из всадников (при встрече посла. — А.С.) были верхом на красивых лощадях, в богатой сбруе с поводами из серебра, сделанными в виде цепей из тонких и широких звеньев так, что они все вместе производили величественный звон. У некоторых лошадей спины были покрыты чепраками с драгоценными камнями, блеск которых, казалось, прибавлял света к свету дня» 309. Эту роскошь я, бывавший в Топкапы, смело назову восточной.
Дело в том, что предметы конского убранства составляли заметную часть драгоценных даров, направляемых русским царям турецкими султанами и персидскими шахами, китайскими императорами и бухарскими эмирами. Попадая в казну, в Оружейную палату, они поражали воображение русских мастеров и служили им образцами для подражания. К примеру, юный персидский шах Аббас I (он в то время особенно настойчиво домогался союза с Россией) подарил в 1590 году царю Федору Иоанновичу золотое седло, обтянутое бархатом и украшенное ярко-голубой крупной бирюзой, рубинами, изумрудами. Другое также золотое седло, присланное в дар шахом Сефи в 1635 царю Михаилу Федоровичу, покрыто иранским бархатом, затканным цветами гвоздики, и тоже усыпано жемчугом, рубинами, изумрудами и бирюзой. Турецкие же дарственные седла часто делалсь из золоченого серебра, отделывались чернью, гравировкой, чеканкой, покрывались бархатом и алтабасом, расшитыми цветами, составленными из жемчуга и драгоценных камней. И т. д. Даже если русский царь выезжал на лошади, чье убранство было сработано русскими мастерами, оно делалось под впечатлением от подобных подарков, с которыми стремилось сравняться по роскоши и красоте.
Ну, а за царем и знатью, одетыми и вооруженными по-восточному, ехало русское конное войско в татарско-русских тегиляях и «бумажных шапках», вооруженное саблями и саадаками. Правда, некоторая часть конницы уже в 1660-е годы была перевооружена и переодета на западный манер, но большинство еще одевалось по-старому…
Царский кортеж в таком виде вполне мог проезжать по Красной площади мимо собора Василия Блаженного с его куполами-чалмами и мимо Царь-пушки, сделанной в память знаменитых турецких бомбард, а она – кто знает? – могла салютовать ему холостым выстрелом…
ИТОГИ ГЛАВЫ:
ВОСТОЧНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ – ВАЖНАЯ ДОМИНАНТА «ЗОЛОТОГО ВЕКА»
Более двух столетий Московская Русь была вполне самостоятельна и независима в своих художественных вкусах и предпочтениях. Импульсы, некогда данные Византией, волею исторических обстоятельств деградировали и рушились вместе с нею, затухали, теряли свою силу и обаяние, изживались русским обществом и русским искусством, и во второй половине XV уже перестали что-либо диктовать нашим художникам, архитекторам и – главное – зрителям, потребителям и заказчикам. А импульсам, идущим с поднимающегося на волне первой информционной революции Запада, еще только предстояло решительным штурмом подчинить себе всю русскую художественную жизнь в XVIII веке. И вот, в промежутке между этими двумя эпохами Русь, самоутверждаясь в мировом политическом пространстве, оказалась эстетически во многом предоставлена самой себе. Строя свою собственную эстетику, она в то же время жадно прислушивалась, присматривалась и к Востоку, и к Западу, таким полярным в своих художественных идеалах, выбирала, к чьей художественной правде прислониться, откуда черпать свежие идеи и образы, приемы и технологии. Мы имеем бесспорные доказательства, что в течение всего названного периода доминантой оставался, все-таки, Восток, душевно более близкий, в своей избыточности, русскому человеку.
На поверку, все главные, витринные символы Московского Царства – Царь-пушка, храм Василия Блаженного, Шапка Мономаха, шлем (ерихонская шапка) Михаила Федоровича, артефакты «Большого Наряда» и т. д. – все они говорят об эстетической, а нередко и технологической ориентированности русского народа именно на Восток, а не на Запад. Расхожая мысль о пристрастии русских к «восточной роскоши», «восточной пышности» имеет под собой все основания и подтверждается как полным спектром эстетических предпочтений в самых разных сферах жизни, так и собственным творчеством русских мастеров в почти любом из видов художества. Таково важное и неотъемлемое свойство русской ментальности, которое проявилось немедленно и в массовом виде, как только у русских появилась полноценная возможность проявлять свой вкус, не стесняясь политическими и экономическими обстоятельствами. Роскошь и пышность русских одежд, вооружений, конского убранства, интерьеров и быта имущих классов недаром всегда поражали людей Запада, особенно протестантского, которые однозначно относили (и относят) русских к восточной, а не западной цивилизации. Азиатской, а не европейской.
Важно и интересно подметить одно бросающееся в глаза противоречие из руской жизни того времени. Во время официальных церемоний все процессии в России выстраивались в соответствии с самым главным приоритетом – религиозным. Например: «Следование посольского поезда на аудиенцию… Первыми обычно шли посланцы христианских государей, вторыми – мусульманских» 310. Такая же дискриминация происходила и при прибытии иностранцев на прием к царю: «послы христианских государей входили во дворец Благовещенскою лестницею, а послы и гонцы персидские, турецкие, татарские и вообще иноверцы – Среднею, потому что значение Благовещенской лестницы как соборной паперти не дозволяло входить по ней лицам, не исповедовавшим христианской веры» 311. Однако на примере восточного облачения и вооружения русской знати и обустройства русского двора мы убедились в том, что в области эстетических представлений у русских зачастую господствовали совсем иные, противоположные приоритеты. Иными словами, принципиальная конфессиональная рознь и даже вражда была не в состоянии отвратить русских от эстетического предпочтения цивилизации Ислама.
Разговор на эту тему можно было бы продолжать еще очень долго. Но думается, сказанного вполне достаточно, чтобы сделать правильный вывод о том, что в целом верхушка русского общества («западники» там тоже были, но как исключение), а вслед за нею и само это общество были покорены неотразимым обаянием мусульманской, восточной эстетики, разившей, сбивавшей с ног и соблазнявшей поверх религиозных барьеров и государственных границ. Ее стремились присваивать, ей хотели подражать, по ее образцам просили работать русских лучших портных, ювелиров и мастеров-оружейников, собранных в стенах Оружейной палаты.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


![Елена Арсеньева - Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного]](/books/166426/elena-arseneva-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-g.webp)