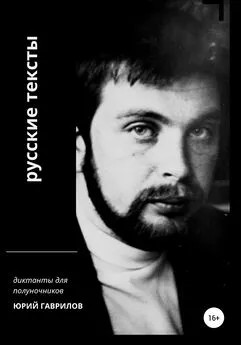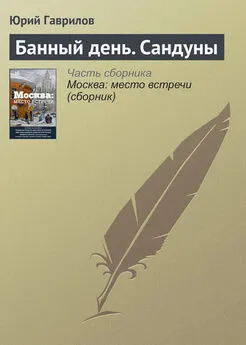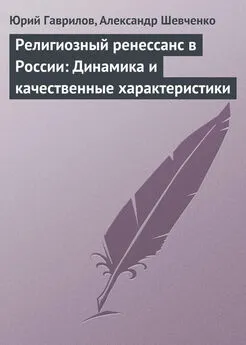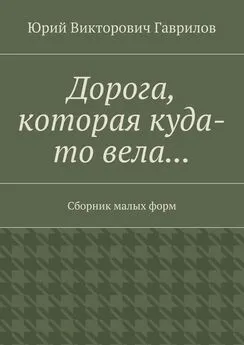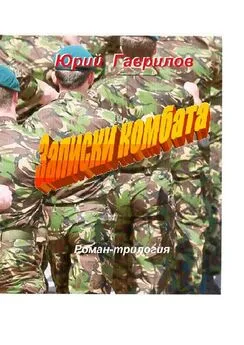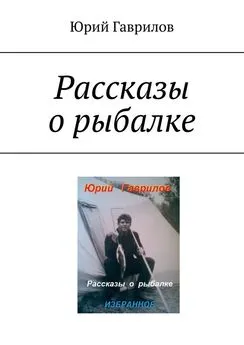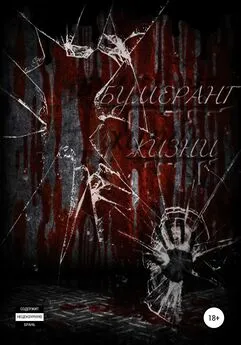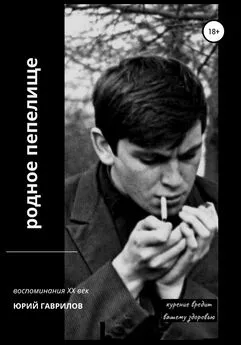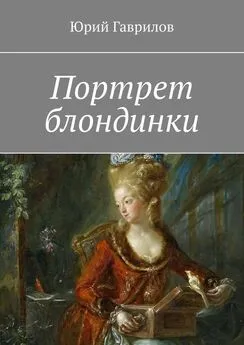Юрий Гаврилов - Русские тексты
- Название:Русские тексты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:978-5-532-95017-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Гаврилов - Русские тексты краткое содержание
Русские тексты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В 1861 году Николай Семенович поселился в Санкт-Петербурге и занялся журналистикой.
И на этом поприще с ним случилась драматическая история, переломившая его жизнь.
Лесков придерживался вполне «прогрессивных», как тогда говорили, взглядов (заметим, что слово «прогресс» запрещалось употреблять в печати: оно считалось опасным для неокрепших умов); его ближайшими друзьями были А. И. Ничипоренко, член «Земли и Воли», умерший в 26 лет в Петропавловской крепости, и агент Герцена – журналист Артур Бенни.
В конце на редкость жаркого мая – начале лета 1862 года в Санкт-Петербурге и других городах империи случились страшные пожары. Обывательская молва обвиняла в поджогах нигилистов, поляков и студентов.
Лесков опубликовал в «Северной пчеле» статью, где в жесткой форме потребовал от полиции либо предъявить доказательства вины студентов, либо самым определенным и официальным образом опровергнуть ложные слухи. Сходную по содержанию корреспонденцию «Пожары» намеревался напечатать в своем журнале «Время» Ф. М. Достоевский, но она была дважды запрещена цензурой.
Кто и как прочитал эту статью Николая Семеновича – неизвестно, но в демократических кругах пошли разговоры: Лесков – агент правительства и обвинил студентов в поджоге по наущению полиции.
Лесков тщетно пытался оправдаться: он устно и письменно умолял прочитать его статью и убедиться, что никакого доноса она не содержит, и ровно наоборот – написана с целью защитить студентов от облыжных обвинений.
Мог ли Чацкий убедить фамусовское общество в том, что он – не сумасшедший?
То-то…
Но там-то были ретрограды времен Очакова и покоренья Крыма!
Демократы времен Добролюбова оказались ничем не лучше.
Униженный и оскорбленный Лесков уехал в Прагу, затем в Париж и вдали от родины пытался осмыслить то новое в жизни общества, что Тургенев назвал «нигилизмом», Лев Толстой – заразой, Достоевский – «Бесами», Гончаров – «Обрывом», а Писемский – «Взбаламученным морем».
Нигилистов было много что несколько тысяч на стомиллионную империю, но опасность они несли смертельную.
Они говорили от имени народа и действовали, по их мнению, на его благо, но народа, подлинного, а не придуманного, не знали; и народ их не знал и не хотел.
Нигилисты готовы были навязать свою волю огромной стране под личиной свободы и демократии; их идейным потомкам это удалось – сначала в октябре 1917-го, потом, под другими знаменами, в декабре 1991-го, и оба раза это обернулось трагедией.
Николай Семенович вернулся в Россию с романом «Некуда» (1864) и сразу прославился – благодаря истерике Писарева Лескова прочла вся читающая Россия.
Самый знаменитый, самый талантливый тогдашний бес заклеймил Лескова как последнего реакционера и мракобеса.
А, между тем, роман прочтен тем же самым образом, что и злополучная статья о пожарах.
Яркая фигура В. А. Слепцова (Белоярцева в романе) застила глаза революционно-демократическим критикам.
Автор «Современника» и большой практик модного «женского вопроса» Слепцов организовал Знаменскую женскую коммуну – меблированные комнаты для женщин, бежавших от тирании мужей, и девушек, удравших из семьи в поисках знакомств с «новыми людьми».
По городу пошли гулять соблазнительные сплетни про оргии в коммуне…
«Эмансипе» не смогли вести самого простого общего хозяйства – дело кончилось конфузом.
Что, собственно, и описал Лесков, деликатно опустив разухабистые слухи о коммунальных, то есть общих женах.
Но «Знаменка» была любимая мозоль радикалов.
Взвыв от негодования, они вовсе не заметили того, что один из главных героев романа, социалист Райнер (Артур Бенни), погибший во главе польского повстанческого отряда, изображен в ореоле жертвенного благородства; то, что автор ни на йоту не сомневался в чистоте помыслов Лизы Бахаревой.
Была пропущена Писаревым и главная мысль Лескова: старое плохо и новое никуда не годно. Райнер и Лиза (как и тургеневский Базаров) должны были погибнуть – им некуда деваться. В старой лжи они задыхаются, и бесам они не нужны, у бесов иные, корыстные цели и иные, грязные методы.
В большом романе Лескова «На ножах» (1870) больше злобы, чем художественных достоинств. Этим романом была вскрыта старая гниющая рана. Гной обиды, мутивший разум писателя, вышел наружу и «старогородская хроника» из жизни провинциального духовенства («Соборяне», 1872) стала достойным переходом к лучшему периоду творческой жизни писателя.
В «Соборянах» Лесков показал Русь патриархальную, наивную, беззащитную перед хищниками и лжепророками.
Создавая «Праведников» он словно забыл о нигилистах, его интересовали «тихие, тайные струи, которые текли под внешней рябью русских вод, кое-где поборожденных направленческими ветрами». (Лесков Н. С. «Обнищеванцы»)
Тот, кто не прочел «Запечатленного ангела», «Пигмея», «Воительницу», мощного «Очарованного странника», лукавые «Мелочи архиерейской жизни», чудесного «Однодума» – тот представляет себе русскую жизнь XIX века в лучшем случае однобоко и имеет искаженное представление о русских характерах.
Только подобным невежеством можно объяснить утверждение: все русские – рабы. Это очарованный-то странник Иван Северьянович и соличгаличский квартальный «однодум» Александр Афанасьевич рабы?
Лесков обстоятельствами жизни был поставлен вне партий. Его умственное одиночество укрепило его огромный талант, сделало его особенным, ни на кого не похожим.
Русская критика назвала Лескова, вслед за Достоевским, «больным талантом», и читающая публика с этим легко согласилась.
Насколько здорово было само общество стало ясно через 10 лет после смерти писателя.
Чехов Антон Павлович
Современники вспоминают о Чехове как о святом – совершенно не за что зацепиться. Его жизнь сродни гражданскому подвигу Чернышевского: Чехов оказался на Сахалине, но Антона Павловича никто не ссылал, он поехал на край света сам, но зачем – никому не известно. А здоровье подкосил основательно.
Его любили животные и дети; он любил собак и лошадей, а женился отчего-то на Ольге Леонардовне Книппер, которую не любил, и она отвечала ему взаимностью.
Ускользнул от всех: от дышавшего к нему нежностью Бунина, от Горького – цепкого портретиста, от бесцеремонного Гиляровского, от Толстого, сумевшего восхититься непостижимой «Душечкой», но не умевшего разгадать Чехова.
Он написал «Крыжовник» – о несовершенстве жизни, о том, что стыдно быть счастливым и благополучным, о ничтожности человеческих желаний: купить поместье, есть собственную, не покупную ягоду.
Он купил поместье, Мария Павловна собирала и пускала в дело собственный, не покупной крыжовник, а Антон Павлович пил чай с ароматным вареньем. Он написал «Ионыча», а Гончаров – «Обыкновенную историю», кому какой талант Бог послал; но «Ионыч» – не рассказ, а в своем роде «Обыкновенная история» – такой себе роман на 18 страниц.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: