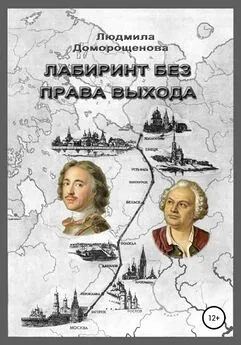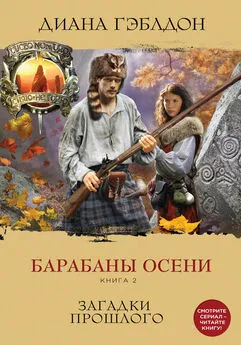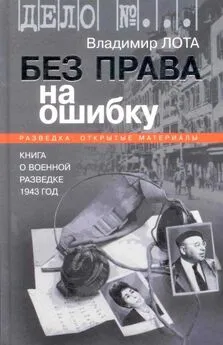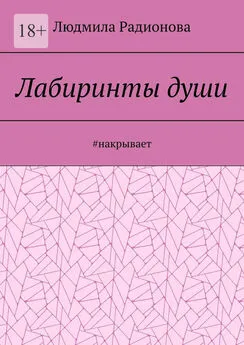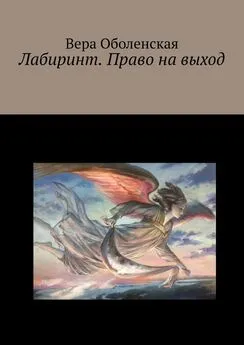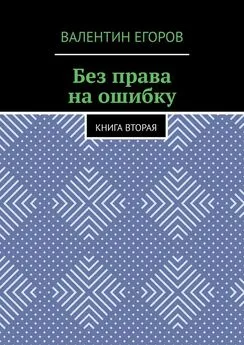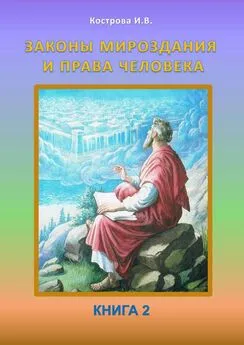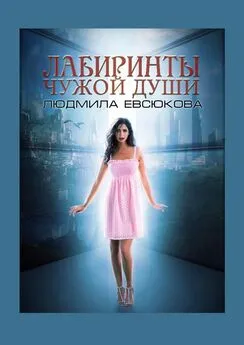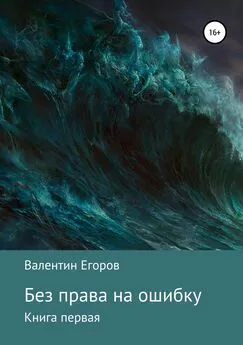Людмила Доморощенова - Лабиринт без права выхода. Книга 1. Загадки Ломоносова
- Название:Лабиринт без права выхода. Книга 1. Загадки Ломоносова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Доморощенова - Лабиринт без права выхода. Книга 1. Загадки Ломоносова краткое содержание
Лабиринт без права выхода. Книга 1. Загадки Ломоносова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В северных районах России – Архангельске, Вологде, Олонце, Костроме и т.д., где староверы были особенно многочисленны, число образованных, что зафиксировано в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона (том 18, С. 547-548) было значительно выше, чем в центральных и южных районах страны. Исследователи называют разные проценты грамотности населения Русского Севера в 18 веке – от четырёх до 50 и более в конкретных населённых пунктах. Если учесть, что к началу «культурной революции» в 1924 году грамотных здесь (по официальным данным) было всего 24 процента, то цифра в 50 процентов в 18 веке кажется запредельной. Но при этом надо учитывать, что речь идёт только о грамотности – умении читать и писать, а не об образованности – умении пользоваться грамотностью для развития личности, пополнения своих знаний о мироустройстве. Как сказал известный публицист и литературный критик 19 века Д. Писарев: «Грамотность драгоценна для нас только как дорога к развитию».
Грамотность и образованность, к сожалению, часто принимаются за одно и то же. Даже на сайте историко-мемориального музея М.В. Ломоносова (с. Ломоносово Архангельской области) сообщается, например, что «… ко второй половине 18 века северное крестьянство было наиболее грамотным отрядом сельского населения России. Причём образование, исторические знания и книжная культура развивались главным образом за счёт традиционного домашнего образования, подкрепляемого интересами земледельческо-ремесленной деятельности и традициями духовной культуры, гражданственного самосознания, свободы от личной крепостной зависимости (всё выделено мною. – Л.Д. )».
На самом же деле, конечно, северному крестьянину тех далёких времён, которому неоткуда было ждать помощи в своей отчаянной борьбе за жизнь, за хотя бы относительное благополучие семьи в условиях, как мы сейчас говорим, рискованного земледелия, даже грамота была ни к чему. О духовном священник в проповеди скажет. «Детективные» истории о жизни богатырей и святых праведников можно у сказителей послушать. Как пахать и что именно сеять – мать с отцом научили ещё в детстве, причём с учётом условий Севера. Использовалось только то, что было опробовано не одним поколением землепашцев; ничто новое не принималось на веру или по приказу свыше. Хотя попытки такие в благих целях предпринимались.
Так, созданное в России в 1765 году Вольное экономическое общество одной из главных своих целей ставило распространение среди населения сельскохозяйственных знаний и передовых технологий, с успехом применяемых в зарубежных странах. В том числе речь шла о выращивании картофеля (в 18 веке его называли «земляным яблоком»). О культивировании картофеля в стране было принято специальное решение Сената. На места, в том числе в Архангельскую губернию, рассылались различные наставления и рекомендации по его разведению, завозились семена, в чём участвовал даже сам архангельский губернатор (1763-80) Е.А. Головцын. Однако крестьяне отвечали новаторам: «По Божественному изволению ни единого яблока урожаю не оказалось»; или: «Оных яблок не токмо произращения и приплоду, но и того, что было посажено в земле, не обыскалось…». Потребовалось почти сто лет робких проб и полученных-таки успехов, чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки и процесс разведения картофеля на Севере пошёл.
Так что никакой «земледельческо-ремесленной интерес» или «гражданственное самосознание» не могли инициировать любую, пусть и прогрессивную в конечном итоге, деятельность, если она была связана с отступлением от традиций, опыта и уже наработанных навыков. Ведь это могло привести к непредсказуемым для конкретного человека результатам, недороду, а то и гибели урожая, то есть к жизнеугрожающим последствиям для него и его семьи. Поэтому в хозяйстве важна была одна грамота – «как мати да татушка робили». А уж если недород и случится – «на то воля Божья».
В начале 18 века известный просветитель того времени Феофан Прокопович пытался поднимать вопрос о просвещении крестьянства. В его «Разговоре гражданина с селянином да певцом или дьячком церковным» 16 16 Прокопович Феофан. Разговор гражданина с селянином да певцем или дьячком церковным / Публ. П.В. Верховского // Учреждение духовной коллегии и духовный регламент. Т. 2. Ростов-на-Дону, 1916. С. 36.
, написанным около 1716 года, селянин бурно отстаивает свою точку зрения: он не хочет знать ничего, чего не знали его отцы и деды, и не желает учиться грамоте, потому что, и не умея читать, ест хлеб, а грамотные философы «звёзд не снимают». Он так и заявляет: «Отцы наши не умели письма, но хлеб довольный ели, и хлеб тогда лучший родил Бог, нежели ныне, когда письмении и латинии умножилися». Селянин в этом произведении – малоросс, но так рассуждали тогда, исходя из своего понимания, большинство крестьян в стране, в том числе и на Севере. Недаром ещё в конце 19 века школы в сёлах Архангельской губернии закрывались порой из-за того, что родители не отпускали детей на учёбу за абсолютной ненадобностью в ней.
Для староверческих же семей грамотность, как мы уже говорили, была своего рода общественной повинностью. Поэтому цифра в 50 с лишним процентов может говорить не о какой-то фантастической образованности северного крестьянства в 18 веке, его якобы традиционной тяге к грамоте, а только о количестве явных раскольников в регионе. И, значит, по отношению к распространённости грамотности (умения писать и читать) эта цифра вполне реальна. Снижение же грамотности населения на Русском Севере до 24 процентов в начале 20 века можно объяснить как почти трёхвековой борьбой государства и церкви со староверием, так и военными, революционными событиями 1914-21 годов, ломавшими привычный уклад жизни, в том числе и связанный с образованием детей, а также полным искоренением большевиками скитского жизнеустройства старообрядцев уже в первые годы советской власти.
Сделать из всего вышесказанного уверенный вывод, что семья Луки Ломоносова была старообрядческой, мешает, вроде бы, тот факт, что он являлся какое-то время церковным старостой, а значит, обязан был посещать официальную церковь. Но и здесь не всё однозначно. Во-первых, обязанности церковного старосты были хоть и ответственные, но, в общем-то, как показано нами, сугубо мирские. Во-вторых, избравшие Луку односельчане, как и большинство жителей губернии, могли если и не числиться в расколе, то быть к нему склонны или благосклонны (т.е. принимали без осуждения). Недаром уже упомянутый нами архангельский историк и краевед И.М. Сибирцев считал, что «большинство жителей Архангельской губернии если и не числятся в расколе, то, во всяком случае, склонны к нему».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: