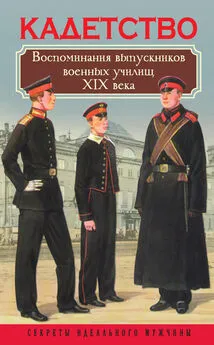Эдвард Павлович - Воспоминания изгнанника (из Литвы в Россию – XIX век)
- Название:Воспоминания изгнанника (из Литвы в Россию – XIX век)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005069504
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдвард Павлович - Воспоминания изгнанника (из Литвы в Россию – XIX век) краткое содержание
Воспоминания изгнанника (из Литвы в Россию – XIX век) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Благоприятное положение новогрудского «повета» (павет, повет, – область, уезд, бел. польск. яз.), его плодородные земли, а значит и большее чем где-нибудь благосостояние жителей, среди которых были имена древних фамилий, гордо носивших свое имя, задавало тон всему краю. Там была колыбель многих родов, там сохранялась память о блестящем прошлом, о заслугах, славе, что давало им превосходство во всей Руси Литовской. Ничего удивительного, что это становилось и образом жизни, в силу обстоятельств, и целью и амбициями, поднятыми на самый высокий уровень, как нигде более. Этому способствовали и щедрая земля и местные условия жизни.
Новогрудская земля граничит с одной стороны с глубоким Полесьем, с другой огибается каналом Агинского, связывающим ее с Черным и Балтийским морями, что было преимуществом, особенно в то время, когда еще не было железных дорог. Торговые связи с Причерноморьем, через которые доставлялась соль, достигали Немана. Сюда с запада шли товары, отсюда сельскохозяйственные продукты на Балтику.
Леса и пущи новогрудской земли, такие как Налибокская, Кочережка, Репичевка, с трех сторон окружающих повет, давали и строительный материал и топливо. Реки Щара, Уша и Сервечь, с многочисленными притоками, окружали луга и пастбища, придавали особую красоту краю. Почвы щорсовские, кашовские и даревские по берегам Сервечи, Уши и Двейки, особенно богатые, назывались «Новогрудской Украиной». Весь этот живописный край с его холмами и долинами, в тени рощ, со старыми костелами и церквями, полный жизни в многочисленных усадьбах, в людных богатых селах, так счастливо расположенных, был, наверное, самым лучшим в Литве.
Не приходится удивляться богатству и достатку края. В шляхетских домах, где по старым обычаям ранее подавалась медовуха, и то только по праздникам, стали появляться заграничные вина, что раньше были только у господ. Женщины позволяли себе не выходить годами из пределов нескольких домов, изредка посещая костел или навещая в соседей в собственной бричке. Между тем шли преобразования домашнего быта, менялась одежда, стиль поведения и приемов гостей. Следуя французской моде, надо было заводить повара, слуг, экипажи, фортепиано и тд. Надо было равняться с одними и превзойти других. Карнавалы в городках и селах, охота, ярмарки (в Зельве и Несвиже), визиты, именины, ассамблеи, весь арсенал местных прелестей, стал важной частью жизни общества в Литве.
Раз в три года приходилось посвящать себя и общественной жизни, когда созывались «сеймики», хотя и ограничивалась тесными рамками, установленными властями, но не слишком влияла на общий ход жизни, утоляя некие общественные амбиции. Выбранный один раз в три года губернский «Маршалок» (или поветовый) иногда входил во вкус и продлевал несколько выборов, заводил секретаря, который приносил на подпись документы и «де факто» управлял весь срок губернией или поветом. Приходилось иногда присутствовать на торжествах по случаю царских праздников, чтобы увеличить свою популярность среди дворянства, давая щедрые приемы с хорошей трапезой, напоминавшие старопольское гостеприимство. При Николае положение Маршалка, как представителя местного дворянства и его интересов, заставляло власть относится к нему снисходительно, понимая, что его консерватизм является надежной опорой трона.
Такими были обычаи и нравы литовско-русского общества в первом десятилетии после 1831 года. Можно спросить, почему шляхта, местное дворянство, отодвинутое от политической жизни, обреченное на бездеятельность, в крае, по преимуществу сельскохозяйственном, не взялось, следуя своим инстинктам, за земледелие? Ведь в то время оно была освобождено от всех налогов, поборов, выплат, которые позже свалились на него, обладающего сельским людом. Не приложило оно усилия ни моральные, ни материальные, чтобы расширить свои хозяйства, вывести их на более высокий уровень.
А какова роль духовенства, стоящего между шляхтой и царским двором? Что оно могло сделать? Ответ краток. Его бездействие прежде всего объясняется духовным опустошением, последующим после подавления восстания. Кроме того, отсутствием соответствующих научных институтов и значительным снижением интеллектуального уровня. Любая мысль о проведении каких_либо реформ вызывала усмешку, к тому же для них не было ни материальных средств, ни капиталов. В короткий срок после 1831 года все оказались в долгах.
Ну, а духовенство, разве что у жмудинов, где община подпитывалась шляхетской молодежью, отягощенной хлопотами хозяйства, где вся ее роль сводилась к костельным обрядам, но ее не заботила судьба общины. Викарий общины того времени был в прямом смысле слова «шляхтич в сутане». Его роль была не разбазарить своё хозяйство, но он и не мог поднять его, принести свет под крестьянские крыши. Он не мог или, как минимум, не хотел быть посредником между холопом и господином. Х. Павел Бжостовский еще не имел в то время своих последователей в Литовской Руси.
Павел Ксаверий Бжостовский, (1739 – 1827) Государственный и религиозный деятель Великого Княжества Литовского, меценат. Писарь Великий Литовский (1762—1774), архидьякон виленский (с 1823). Публицист и переводчик. Создатель первой в Европе, так называемой «крестьянской республики» (Павловская республика, 1767 год – до «раздела Польши Российской империей).
Провёл радикальные социально-экономические реформы, введя республиканское самоуправление крестьян.
Основными изменениями были: отмена крепостного права и замена его денежной рентой, право крестьян на свободное управление своей землёй и хозяйством, торговлю и ремесленные работы. Население также приобрело возможность свободно выбирать своих правителей, Бжостовским был создан Парламент республики Павловской.
Одним словом, кроме единичных случаев, шляхта и духовенство того времени не обрели твердой позиции по отношению к народу.
Еще в 1818 году группа жителей Литовской губернии, возглавляемая Маршалком* Михаилом Ромером, подала просьбу об освобождении своих крестьян. Просьба, как известно, не была удовлетворена. Однако власть эту просьбу отложила на всякий случай, имея ввиду воспользоваться в случае необходимости дальнейшего искоренения польского элемента в Литве.
*Маршалок – высокое должностное лицо в Великом Княжестве Литовском
Чувствительная ко всем проявлениям общественного движения, власть понимала, что народ, обезоруженный морально и материально, не по своей воле, способен проявить инициативу только ценой больших жертв, и сделала все, чтобы это было невозможно.
Так что не следовало искать справедливости и апеллировать к совести народной, которой не было и быть не могло, но фактом оставалось, что дальнейшее развитие шло по наклонному пути, все далее к окончательному закабалению народа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
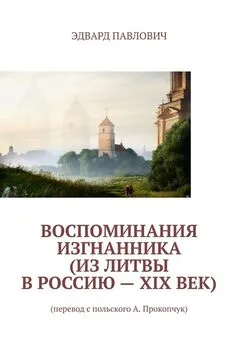


![Павел Брянцев - Литовское государство [От возникновения в XIII веке до союза с Польшей и образования Речи Посполитой и краха под напором России в XIX веке] [litres]](/books/1060694/pavel-bryancev-litovskoe-gosudarstvo-ot-vozniknove.webp)