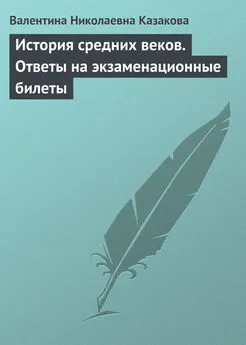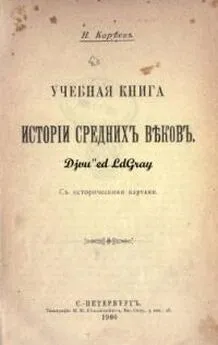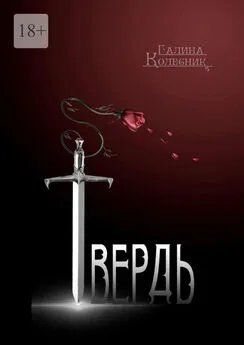Василий Васильевский - Лекции по истории средних веков
- Название:Лекции по истории средних веков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91419-010-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Васильевский - Лекции по истории средних веков краткое содержание
Лекции по истории средних веков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Право личной мести в прежние времена существовало, конечно, еще без тех ограничений, какие явились в позднейший период. Судебный процесс также много представлял личной инициативе каждого человека, хотя суд происходил в волости (pagus) и дело разбиралось при помощи всей общины. Тут нам нужно пояснить смысл одного места из Тацита, которое может быть понято неверно и потому возбудить недоразумения.
В XII главе «Германии» он говорит: «eliguntur in isdem consiliis (т. e. на общих земских вечевых собраниях) et principes, qui iura per pagos vi-cosque reddunt; centeni singulis ex plebe comités consilium simul et auctori-tas adsunt». Это известие довольно странное; Тацит, по-видимому, предполагает, что на суде, который производится «per pagos vicosque» (в волостях), принцепсами присутствуют сто лиц выборных «ex plebe». Но оно должно быть понято иначе. Выбранные в народных вечевых собраниях главари или судьи чинят суд и расправу в отдельных сотенных волостях и селах. Буквальный же смысл слов Тацита о ста выборных лицах – носителях юридических представлений племени был бы неестественным, несообразным со всем общественным строем племени. Эта неточность Тацита легко объясняется тем, что он, зная о германском названии pagi – сотня, не совсем понял этот термин и смешал в слове centeni понятие о представителях всей волости (principes) – главари, судьи – с понятием о выборных из самой волости ста лицах, которые играли роль судей. Суд производился на волостных сотенных сходках, которые тем и отличались от общих, земских, что имели судебные функции, тогда как первые исполняли политические. Дела разбирались в присутствии и при помощи всей сотни, и, как сказано, судебный процесс представлял довольно широкое поле действия личной инициативе.
Обвинитель сам приводил обвиняемого в суд.
Для этого существовала особая формула, которая произносилась истцом перед ответчиком; услыхавший ее должен был непременно явиться на суд, иначе процесс в случае неявки непременно решался не в его пользу. Обвинитель сам допрашивал обвиняемого и, что всего страннее, он сам, а не суд, имел власть принудить обвиненного отвечать. Эта власть или сила заключалась в известной форме определенно поставленного вопроса.
Кто не отвечал на вопрос, поставленный в такой форме, тем самым проигрывал процесс. Ответ должен был точно соответствовать вопросу. Уклонение от формулы опять влекло за собой опасность проиграть дело. После того как обвиняемый еще раз ответил, со своей стороны один из опытных знающих людей, судей (шеффенов), выражавший мнение предстоящей общины, произносил приговор. Последний не содержал заключения, кто прав, кто виноват, а только решение о том, чего требует право, если та или другая из указанных в приговоре двух сторон подкрепит свои показания известным процессуальным действием. Таким образом, приговор был условный; смотря по тому, будет ли или нет представлено требуемое доказательство, он решал дело в пользу той или другой стороны.
Процессуальные действия, посредством которых доказательство могло быть представлено, была клятва соприсяжников и Суд Божий посредством поединка (поля). Соприсяжники назывались также свидетелями, но их присяга была совершенно отлична от той, к которой приводят обыкновенно свидетелей. Соприсяжники не клялись в том, что они вообще будут говорить правду, и не разъясняли того, что им известно из обстоятельств, предшествовавших делу и сопровождавших его; они клятвенно утверждали только одно, заранее сформулированное положение, от скрепления которого присягой поставлено было в зависимость решение суда. Совсем не спрашивалось, могли ли свидетели или нет сделать еще какие-либо показания, которые помогли бы судье составить убеждение о праве или виновности сторон: это было неважно. Вся задача была в том, чтобы решать дело сообразно обычаям, чтобы решить: 1) которая сторона обязана будет представить доказательства и 2) принесена ли присяга как следует, с положенным числом соприсяжников.
Свидетели поэтому приглашались только тогда, когда приговор был уже произнесен. А выигрывало дело, если он присягнул в том-то, со столькими-то (обыкновенно двенадцать) соприсяжниками – вот постановление суда.
Соприсяжниками (conjuratores) бывали обыкновенно родичи обвиняемого; если же, по их мнению, клятву в его невинности нельзя было произнести, они старались удержать его даже от начала процесса.
С первого взгляда можно подумать, что такая процедура процесса не давала возможности оправдать правого человека, но необходимо помнить, что клятва считалась у древних германцев делом священным, и, кроме того, можно было отрицать приговор, произнесенный шеффеном, и тогда дело решалось поединком недовольного с шеффеном. Форма вызова состояла в том, что лицо, проигравшее процесс, но не желающее подчиниться несправедливому решению, втыкало в землю у двери дома шеффена обнаженный меч. Таким образом, судья, пришедший для исполнения приговора, увидев этот вызов, возвращался назад и должен был назначить поле.
Так решались у германцев дела о собственности, об увечьях, о ранах, словесных оскорблениях, насильственных действиях и так далее. Наказания, назначаемые в суде, в большинстве случаев ограничивались денежной пеней. Свободный человек был почти избавлен от телесного наказания, которое применялось в очень редких случаях. Вследствие того, что назначалась пеня как наказание за большую часть преступлений и поступков, впоследствии у англосаксов мы встречаем целые тарифы за увечья. Особенно любопытны штрафы Кентского графства. Так, например, за простые побои там назначалась пеня в 12 шиллингов, за побои, от которых пострадавший получал глухоту, – 18 шиллингов, за оторванное ухо – 20 шиллингов и тому подобное (подобного же рода примеры мы часто встречаем и в древнерусском праве).
Часть этих штрафных, «мировых» денег шла в пользу короля; если же его не было, то «мировые» деньги обыкновенно пропивались: устраивали пир, часто подававший повод к новым дракам, новым увечьям и новым пеням. Только измена, трусость и противоестественные пороки, по словам Тацита, наказывались смертью. [31] Germ., 12.
Этими описаниями мы должны ограничиться при освещении государственного быта древнегерманских племен.
Семейный и религиозный быт
Когда отдельные роды древнегерманских племен прочно уселись на своих местах, когда соединились в общинные союзы, тогда начали устраиваться и сплошные поселения – села, деревни. Устройство жилищ у древних германцев было первобытное и незатейливое. Стены домов строились частью из дерева, частью из плетня, обмазанного глиной, покрывались тесом или соломой; отверстие для пропуска дневного света и для выхода дыма было одно и то же.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: