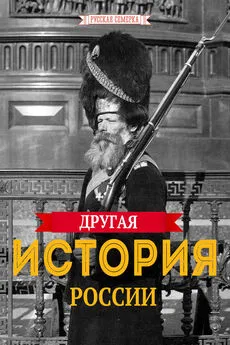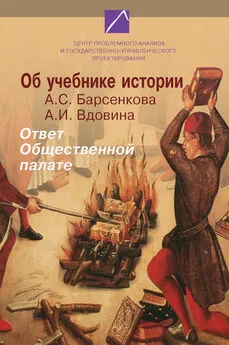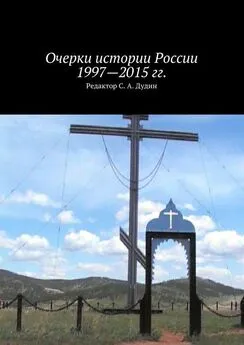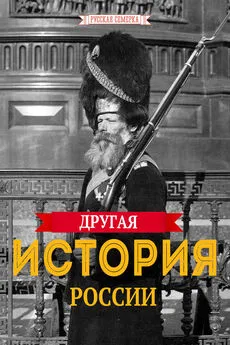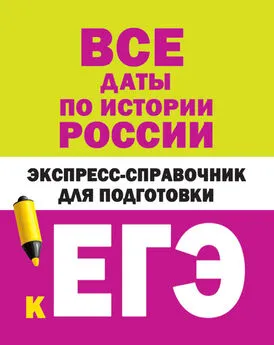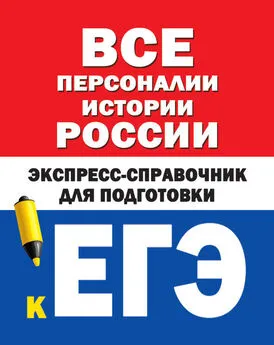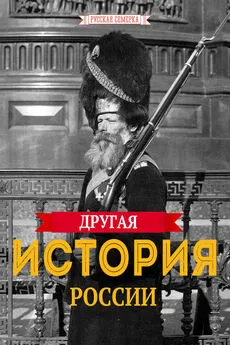Коллектив авторов - Самодержавие в истории России
- Название:Самодержавие в истории России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-248-00676-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Самодержавие в истории России краткое содержание
Для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов.
Самодержавие в истории России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Главным «противоречием» летописного текста, указывающим на «искусственность» легенды о призвании, выглядит сообщение об изгнании за море насильников-варягов, собиравших дань со словен, кривичей и мери, и последующее обращение этих племен к тем же, в принципе, варягам. Однако, как отмечает В.Я. Петрухин, в контексте международных отношений «эпохи викингов» такая ситуация вряд ли может считаться необычной: правители разных стран приглашали норманнов и заключали с ними соглашения о защите своих земель от их же соотечественников. Вряд ли корректна также трактовка соглашения руси и славян как «прикрытия» традиционным мотивом «общественного договора» фактического завоевания и выплаты дани варягам в качестве выкупа мира. В раннесредневековый период государственная власть и воплощавшая эту власть княжеская дружина оказывались «завоевателями» формирующейся государственной территории вне зависимости от наличия или отсутствия принципиальных различий в этническом составе дружины и подвластного ей населения. Если мир и покупался этим населением, то и дружина была заинтересована в мире, чтобы «кормиться» на подчиненных землях (15, с. 152; 13, с. 118; 12, с. 108–109). Таким образом, заключает В.Я. Петрухин, можно вполне определенно предполагать, что конфликт с варягами-норманнами действительно завершился «рядом» – договором с русью, дружиной призванных князей. При этом славянская (и даже праславянская) правовая и социальная терминология легенды о призвании («ряд», «правда», «володеть», «княжить»), очевидно, указывает на то, что славяне были активной стороной в установлении «ряда» и формировании государственной власти, а сам договор стал основой развития дальнейших отношений княжеской власти со славянскими и другими племенами (15, с. 160–161; 13, с. 125, 127; 12, с. 120).
По мнению М.Б. Свердлова, основу легенды составили не призвание варягов или договор с ними, а избрание князя, которое восходило к древнейшей традиции славянских и других народов на последней стадии племенного строя. При этом, как и в случае избрания западными славянами франка Само, этническая принадлежность князя значения не имела. Политический смысл избрания Рюрика заключался в стремлении местной славянской и финно-угорской знати иметь в лице располагавшего сильной дружиной правителя противовес шведским викингам и избежать восстановления прежних даннических отношений с ними (16, с. 108–109; см. также: 1, с. 37–38).
Из летописных сведений о Рюрике следует, что после избрания князем он перенес княжескую резиденцию из приграничной Ладоги в более безопасное, но стратегически и политически более важное место, в центр расселения славян в данном регионе – Рюриково городище. Согласно ПВЛ, сложившееся объединение включало словен, кривичей, мерю, весь и мурому, в укрепленных центрах которых – Новгороде, Полоцке, Ростове, Белоозере и Муроме – сидели сам Рюрик и назначенные им мужи. Несмотря на легендарный характер рассказа, изображенная в ПВЛ картина какой-то территориальной общности, простирающейся от Старой Ладоги и Изборска до Верхней Волги и Нижней Оки, отнюдь не противоречит тому впечатлению, которое создают археологические источники, фиксирующие, как и летопись, тяготение скандинавов к «городам» (21, с. 38–40). Таким образом, полагает М.Б. Свердлов, при Рюрике на севере образовалось потестарное государство, представлявшее собой переходную форму от племенных княжений к собственно государству и аналогичное «каганату росов» в Среднем Поднепровье (16, с. 120).
Однако в середине – второй половине IX в. северное и южное государственные образования оказались в разных экономических и политических условиях. Объединение, этнополитическую основу которого составляли поляне и скандинавы Аскольда и Дира, противостояло Хазарскому каганату и не имело доступа к путям поставок восточного серебра. Северное объединение находилось в более выгодных условиях, контролируя значительную часть Балтийско-Волжско-Каспийского пути, обеспечивавшего поступление огромных масс серебра в Восточную и Северную Европу. Более того, «ряд» между русью и племенами севера Восточной Европы, по-видимому, стабилизировал политическую обстановку в регионе, следствием чего стало фиксируемое по монетным кладам усиление с 860-х годов притока серебра на Русский Север (12, с. 120).
Эти объективные обстоятельства стали, по мнению М.Б. Свердлова, причиной военно-политического превосходства северо-западного княжества во главе с династией Рюриковичей над южным государственным образованием с центром в Киеве. Их объединение в результате похода Олега (сканд. Helgi) в 882 г. (согласно летописной хронологии) имело значительные последствия для Восточной Европы. Образовалось Русское государство, под контролем которого оказалась вся восточноевропейская система речных путей (16, с. 129–132).
Примечательно, что одновременно, в последней четверти IX в., наступает перерыв в поступлении арабского серебра, которое почти непрерывным потоком шло через Хазарию с рубежа VIII–IX вв. Эта «блокада» Руси, по мнению В.Я. Петрухина, явилась реакцией хазар на присвоение Олегом дани с северян и радимичей, входивших в зону влияния Хазарского каганата. Поступление монет возобновляется в начале X в., но уже в обход Хазарии, через Волжско-Камскую Болгарию из государства Саманидов в Средней Азии. Тогда же – не ранее первой четверти X в. – первые клады дирхемов появляются в самом Киеве (13, с. 92–93, 132; 21, с. 87).
С конца IX и в X в. Волга становится главным каналом поступления серебра в земли русов, и с этим связана заметная интенсификация жизни на поселениях Ярославского Поволжья (Тимерево, Михайловское, Петровское), в районе озер Неро и Плещеево, в округе Суздаля и Юрьева-Польского, материалы раскопок которых свидетельствуют о росте числа скандинавов в этом регионе. Так, Тимерево превращается в своего рода гигантский торговый зимний лагерь, подобный шведской Бирке (21, с. 68).
Однако несмотря на все экономические выгоды волжского пути, дальнейшая экспансия русов в этом направлении была надежно перекрыта болгарами. Альтернативный маршрут по Днепру и Черному морю имел ряд неудобств, главным из которых были днепровские пороги, что практически уничтожало преимущества транспортировки товаров по воде. Вместе с тем район Среднего Поднепровья обладал плодородной почвой и был достаточно плотно заселен. В этой ситуации, как отмечают С. Франклин и Дж. Шепард, «поворот на юг» и освоение русами Среднего Поднепровья выглядит вполне закономерным (21, с. 87).
На рубеже IX–X вв. археологические материалы фиксируют существенные изменения, происходящие во всем Днепровском регионе. На территории самого Киева с начала X в. начинается активная застройка Подола и освоение этого района в торговых целях. В то же время в районе современного Гнёздова формируется поселение, отождествляемое с древним Смоленском, и начинает функционировать расположенный рядом некрополь, на котором появляются захоронения скандинавов. Присутствие военной элиты документируют также материалы раскопок могильников X в. в Шестовицах под Черниговом и в самом Киеве. Характерной чертой становится распространение камерных погребений – подкурганных захоронений в деревянных срубах, которые предварительно, до возведения насыпи, подвергались сожжению вместе со всем содержимым – покойником и сопровождающим его инвентарем, включая весьма представительный набор оружия. Такие погребения встречаются как в Швеции (главным образом в Бирке, а также в Упланде), так и по всему «Восточному пути». Но особенно много их в Гнёздове и в Среднем Поднепровье, что, по-видимому, указывает на те основные центры, где в X в. обитало большинство русов, и свидетельствует о притягательности и особой роли Днепра в качестве того маршрута, по которому (а не по Волге) проходила теперь скрепляющая ось земель русов (21, с. 105, 122–123, 152).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: