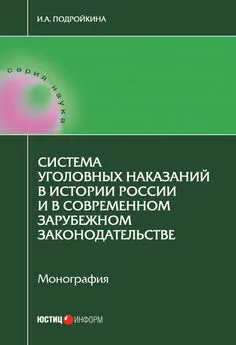Коллектив авторов - История России в современной зарубежной науке, часть 1
- Название:История России в современной зарубежной науке, часть 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-248-00504-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - История России в современной зарубежной науке, часть 1 краткое содержание
История России в современной зарубежной науке, часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Культуре и интеллектуальной жизни в России XVII в. посвящена статья английского профессора Л. Хьюз. Современные историки характеризуют XVII в. в России как «переходный» период, когда традиция соперничала с новшествами, местная культура с импортированными тенденциями. Культура высшего слоя общества в особенности претерпела изменения, которые объяснялись вестернизацией, модернизацией и секуляризацией. Одни ученые находили, что изменения в архитектуре и литературе породили московский тип барокко, другие, вслед за Д. Лихачёвым, полагали, что это – нечто близкое к Ренессансу Западной Европы.
Однако к началу XVII в. Ренессанс оказал незначительное влияние на Московию. Не было никакой портретной живописи, натюрморта, пейзажа или городских сцен, исторического или бытового жанра. Были изображения, деревянные печатные издания и рукописи, но не было живописи маслом на холсте. Скульптура практически была неизвестна. Печать только зарождалась. Московия не имела ни театров, ни университетов. У нее не было поэтов, драматургов, философов, ученых и даже богословов. Ощущался недостаток в теоретических концепциях и теории искусств. Большая роль церкви, зависимое дворянство, слабая урбанизация и экономическая отсталость страны создавали климат, который резко отличал российскую культуру от европейской.
Политическая идеология, например, была выражена прежде всего в иконах и ритуалах, а не в трактатах интеллектуалов. Эта культура была консервативна, но она не была закрыта от современных ей событий. В XVII в. «должно было произойти преобразование культурного сознания» (225, с. 641).
«Наше знание русской культуры XVII в. далеко неполно», – признается Л. Хьюз. Датирование источников часто неточно, особенно в иконописи. Сохранилось слишком мало памятников, чтобы делать далеко идущие выводы. Провинциальная культура в особенности требует дальнейшего изучения. Но есть и свидетельства растущей восприимчивости боярской элиты к отдельным аспектам западной культуры. Матвеев и Голицын, однако, скорее исключение. Знать по своей культуре была ближе к остальному населению, чем к европейской элите. Религия доминировала в культуре.
Советские историки преуменьшали или отрицали религиозность искусства, подчеркивая вместо этого его гуманный, народный и жизнеутверждающий характер, реалистические, бытовые детали. Историки архитектуры находили прогресс в строительстве гражданских зданий из камня и кирпича, а не из дерева.
С начала XVIII в. считалось, что Россия должна достигнуть культурного спасения, подражая и ассимилируя западную культуру. Идея, которую российское искусство восприняло с Петровского времени, господствовала в течение полутора столетий, совпавших с периодом распространения классицизма в России и в Европе. Только с середины XIX в. XVII век привлекает внимание художников, архитекторов и т.п. Многие из них работали в псевдорусском стиле. Романтизированный стиль XVII в. стал модой. Это ностальгическое восприятие XVII столетия было далеким от того, чем оно было в действительности. И все же, считает автор, это столетие осталось последним оплотом истинной русской культуры.
Хотя первый том Кембриджской истории и характеризовался в западной литературе как «сборник превосходных статей», «авторитетный и надежный», однако в его адрес были сделаны и некоторые критические замечания.
Издержки издания проф. Йельского ун-та Пол Бушкович 7 7 Slavic review. – 2008. – Vol. 67, N 1. – P. 228–229.
видит в противоречивом изображении одних и тех же событий у авторов статей, что не объясняется в томе. В нем есть противоречащие друг другу оценки характера Российского государства. Островский считает, что в основу государственной структуры Московии легли монгольские учреждения (взгляд, не имеющий широкого распространения) и что система опиралась на согласие элиты со слабым правителем («великим князем Московии»), власть которого была ограничена (225, с. 215). Хелли рассматривает государство как «гипертрофированное» (225, с. 364) с деспотичным правителем, который вслед за византийским дьяконом Агапетусом (VI в.) считал, что он был наместником Бога на земле. По находит, что через эти два столетия правящие верхи проявили жажду власти и что царь был из этой элиты. Позиция По – между Хелли и Островским. Богатырев и Павлов рассматривают сложный баланс власти между царем и советниками, неустойчивость и непоследовательность в их взаимоотношениях. Такое разнообразие мнений требовало бы редакторского объяснения. Читатель не имеет никакого сведения о том, например, что Островский и Хелли представляют крайние формулировки взглядов, которые существуют и в менее обостренной форме. Это относится и к статьям о праве и обществе. Взгляды Хелли трудно согласовать с взглядами Шоу, а Коллманн предлагает концепцию закона и общества иную, чем Хелли. И как примирить утверждение Хелли, что 85% населения были рабами, с заявлением Коллманн, что многие области России не знали крепостничества? То же можно сказать о подсчетах Ходарковского численности нерусского населения в XVII в., когда он не учитывает украинцев и украинских казаков.
Временные рамки второго тома «Кембриджской истории России» охватывают период от царствования Петра Великого до Февральской революции 1917 г. В начале его говорится, что нет более издания, в котором был бы дан такой цельный и «современный анализ российской истории этого периода» (226, с. 3). Редактор Д. Ливен, как свидетельствует зарубежная научная периодика, на первый план вывел темы, которыми историки пренебрегали в последние десятилетия, – история империи, правительства, экономики, военной и внешней политики. Примерно половина из 31 статьи приходится на эти «немодные», но «традиционные основные темы».
Такое решение отражает и то, что Ливен считает основной задачей издания: обеспечить всестороннее изложение российской истории, представляющее собой как бы энциклопедию. Всесторонность – труднодостижимая цель. Например, глава Д. Муна по истории крестьянства и сельского хозяйства в 1689–1917 гг., будучи достаточно информативной, едва ли может рассматриваться как исчерпывающая. Эта книга охватывает многие темы, иногда в ущерб для исследовательской глубины некоторых из них.
В томе семь разделов (цифра в круглых скобках обозначает число глав): Империя (3); Культура, идеи, идентичности (4); Нерусские народы (3); Российское общество, право и экономика (9); Управление (3); Внешняя политика и вооруженные силы (5); Реформа, война и революция (4). Из 30 авторов книги четыре– российские ученые.
По мнению рецензента этого тома С. Морриссей, недостаток хронологического и концептуального подходов означает, что в издании недостаточно освещены некоторые исторические периоды, есть также проблемы с периодизацией. Отдельная глава посвящена Александру II. Л. Захарова (МГУ) со знанием дела рассказывает о его реформах. Однако читатель вполне может задаться вопросом, почему Петр Великий не заслужил такую же главу? Разве не были бы уместны дебаты об историческом значении его правления? 8 8 Slavic review. – 2008. – Vol. 67, N 1. – P. 230–231.
Интервал:
Закладка:





![Коллектив авторов История - Россия в мировой истории [Учебное пособие]](/books/1078491/kollektiv-avtorov-istoriya-rossiya-v-mirovoj-istorii.webp)