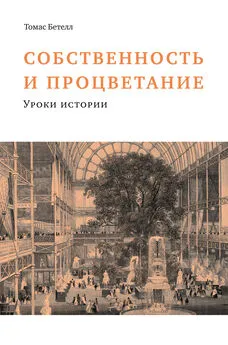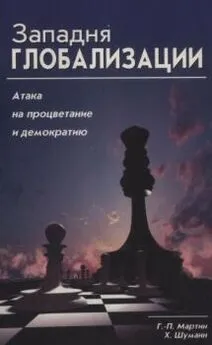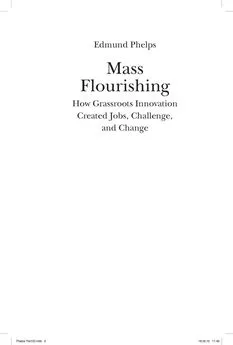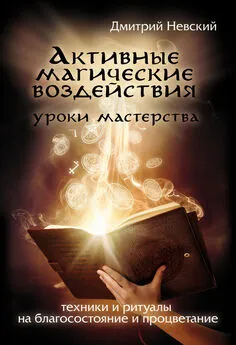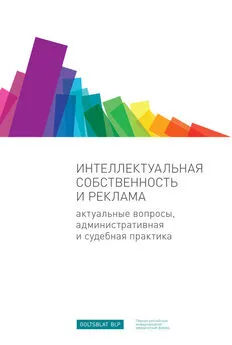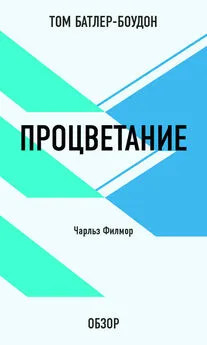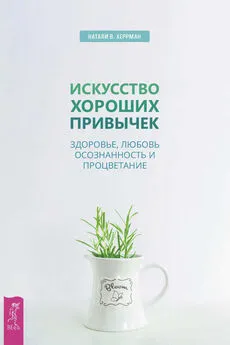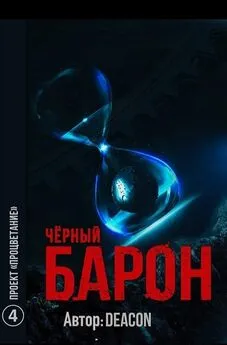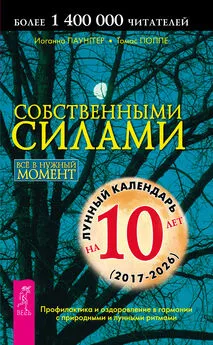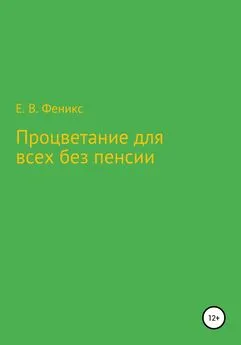Том Бетелл - Собственность и процветание
- Название:Собственность и процветание
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91603-564-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Том Бетелл - Собственность и процветание краткое содержание
примеров того, как ослабление частной собственности вело к распаду и гибели сообществ или к увековечению низкого уровня жизни: судьба колоний в Джеймстауне и Плимуте, коммуна Роберта Оуэна, картофельный голод в Ирландии, СССР и Китай, арабский мир, земельные реформы в странах «третьего мира» и т. п. Особое внимание уделено связи собственности и экологии, а также проблемам интеллектуальной собственности.
Книга начинается с изложения философских и юридических основ прав собственности. Автор анализирует экономическую логику стимулов и демонстрирует пагубность общего пользования ресурсами, при этом широко используя исторические иллюстрации и аналогии. Им представлены взгляды Адама Смита, Иеремии Бентама, Карла Маркса и Фридриха Энгельса, Кеннета Эрроу, Милтона Фридмена и многих других экономистов. Особое внимание уделено возрождению интереса к правам собственности в экономической теории в 1950–1960-е годы (А. Алчиан, Г. Демсец, Р. Коуз).
Собственность и процветание - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Центральным элементом формирования системы, способствующей процветанию, стало великое открытие принципа равенства перед законом. Это то, чего не было у римлян и к чему быстро продвигались британцы. Это важнейшее из открытий западной правовой мысли, надежно хранимое в американской Декларации независимости. Верно и то, что происходящий в США отказ от предположения, что люди вполне равны, а потому закон должен относиться к ним соответственно, – огромная политическая ошибка. Если ее не исправить, она породит сильную напряженность и конфликты и станет крайне разрушительной.
В основе всего сказанного выше лежит предположение, что все люди в мире приблизительно одинаковы. Экономическое развитие мира было, конечно, очень неравномерным, и то же самое можно сказать о соответствующих правовых системах. Все страны, намного опередившие других, обладают свободными конкурентными рынками, на которых все важные стимулы закреплены законом. Следовательно, «теория» здесь сводится к тому, что если бы все народы имели одинаковую правовую и политическую инфраструктуру, они все, независимо от расовых различий, достигли бы сравнимого уровня экономического развития. Вероятно, эта теория со временем будет опровергнута. Возможно, будет доказано, что этнические различия оказывают заметное или даже существенное влияние. Но теория равенства по меньшей мере заслуживает, чтобы ее учитывали. Показательно, что граждане стран с тираническими правовыми режимами, попав за границу, демонстрируют куда более лучшие результаты. Убедительным примером являются индийцы, разделенные на касты и показывающие относительно малую производительность в Индии – но не в других странах. Нет сомнений, что их подавляют законы, а не генетические особенности. То же самое относится к ирландцам.
Любопытно, что в кругах юристов обрела влияние возникшая в 1970-х годах новая область – теория экономики и права. Ричард Познер, самый неутомимый из ее сторонников, чуть ли не в одиночку сумел превратить ее в настоящее движение. У него масса интересных идей, и эта новая сфера помогла в конце концов вернуть собственность на экономические факультеты. И все же в этой истории было нечто странное. Хотя сам Познер юрист – в 1981 году он был назначен судьей федерального апелляционного суда, где и пребывает по сей день, – дисциплина «Экономика и право» пробудила империалистический дух в экономистах, заявивших, что экономика влияет на право, точнее, образует логическое обоснование обычного права. Поразительное утверждение Познера заключалось в том, что экономическая эффективность – адекватная замена справедливости. Но более фундаментальная идея, состоящая в том, что экономическая жизнь полностью зависит от правового режима, была если не совершенно проигнорирована, то, во всяком случае, не получила достаточного внимания.
Познер дорожил той идеей, что существует объективная и измеримая вещь, именуемая эффективностью, которую можно использовать для разрешения вытекающих из закона моральных затруднений. Наконец-то можно будет уладить старые споры, не обращаясь к субъективному утверждению, что мое «нужно» ценнее вашего «нужно». Все это было очень увлекательно и спорно и породило обширную литературу. Брюс Акерман с юридического факультета Йельского университета назвал теорию экономики и права «самым важным, что произошло в области правовой мысли со времен Нового курса», и даже самым значительным достижением в области юридического образования «со времен создания Гарвардского юридического факультета» [24] Paul M. Barren, “Influential Ideas: A Movement Called ‘Law and Economics’ Sways Legal Circles,” Wall Street Journal , August 4, 1986.
. Мы вернемся к этой теме в главе 20.
Собственность и прогресс
Упадок идеи собственности совпал с воцарением идеи прогресса. Между двумя этими событиями есть важная связь: на протяжении всей истории большинство людей правильно приспосабливалось к жизни в том, что можно назвать «настоящее несовершенное». Считалось, что грехопадение испортило человеческую натуру. По этой причине собственность рассматривалась как необходимый, хотя, пожалуй, и неидеальный институт. Конкретное распределение благ не было ни Божьей волей, ни отражением естественной справедливости. Но следовало признать хоть какое-то распределение, чтобы сохранить мир и согласие. Так, наравне со многими другими, смотрел на дело святой Фома Аквинский. Как было бы прекрасно, будь мы совершенными существами, обходящимися без правил, границ и соглашений о собственности! Но пока этого не случилось – собственность незаменима.
До того, как Эдвард Гиббон опубликовал «Историю упадка и разрушения Римской империи», обычно считалось, что для улучшения общества следовало бы восстановить Золотой век. Философы и поэты страстно грезили об Эдеме до грехопадения. Все было общим, и все же людям удавалось жить в мире. Была гармония, и не было собственности. Жан-Жак Руссо, столь современный во многих отношениях, одним из последних выдвинул идею возврата к древней невинности. Ранее Сенека описывал время, когда «никто из людей не мог иметь больше или меньше другого; все вещи были разделены между ними без раздора… Скряга не прятал бесполезное богатство, лишая других самого необходимого для жизни» [25] Arthur O. Lovejoy and George Boas, Primitivism and Related Ideas in Antiquity (Baltimore: John Hopkins Press, 1935), 272–273.
. Он цитирует Вергилия, описывающего время, когда
Земля, не возделана вовсе, лучших первин принесет…
Сами домой понесут молоком отягченное вымя
Козы, и грозные львы стадам уже страшны не будут. …
И с невозделанных лоз повиснут алые грозди.
Во время Французской революции или незадолго до нее возникло нечто новое. Ностальгию по прошлому начало вытеснять то, что можно было бы назвать мечтой о «будущем совершенном». Все так же признавалось несовершенство человеческой природы, но теперь его считали лишь временным явлением. Возникла надежда, что в будущем человек станет более совершенным. В этом и заключалась суть идеи прогресса – абсолютно новой и очень опасной идеи. Именно в то время у ряда мыслителей возникли серьезные сомнения в отношении собственности. В опубликованных тогда текстах начинают попадаться такие выражения, как «существующий институт» или «нынешняя система» собственности. Поскольку появилась возможность изобрести что-то получше, существующая система сразу показалась ущербной. А значит, ее нужно изменить – возможно, даже полностью уничтожить. Другие же верили, что изменения, волей или неволей, уже начались. И, разумеется, они начались.
До того времени любое предложение об изменении системы собственности сразу наталкивалось на следующее возражение: альтернативные правила собственности хотя и желательны, но неосуществимы, потому что будут подорваны существующие стимулы. Частная собственность, по-видимому, единственная мера, побуждающая людей к упорному труду. Были попытки наладить коллективное хозяйство, но они провалились. Коммунары начинали со взаимной благожелательности, все были счастливы все делить и получать поровну, но через год-другой начинались ожесточенные свары. Кончалось это тем, что коммунальное имущество делили или «приватизировали», и все расходились в разные стороны. (В главе 9 мы увидим, что именно так случилось в коммуне, организованной Робертом Оуэном в Индиане.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: