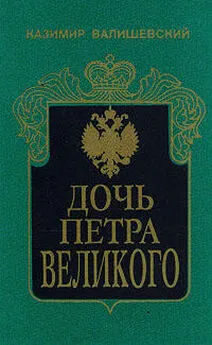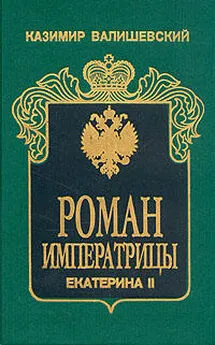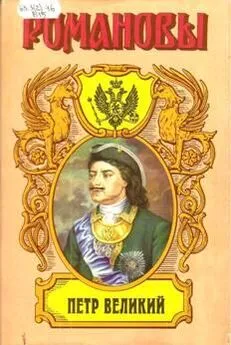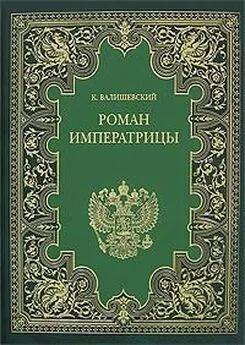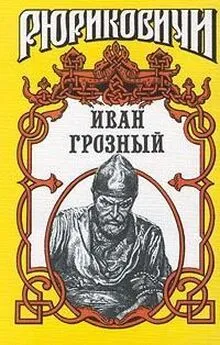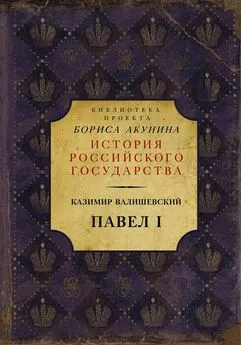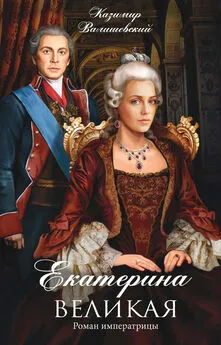Казимир Валишевский - Сын Екатерины Великой. (Павел I)
- Название:Сын Екатерины Великой. (Павел I)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-17-018871-4, 5-271-06522-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Казимир Валишевский - Сын Екатерины Великой. (Павел I) краткое содержание
Казимир Валишевский (1849 – 1935) – широко известный ученый: историк, экономист, социолог. Учился в Варшаве и Париже, в 1875–1884 гг. преподавал в Кракове, с 1885 г. постоянно жил и работал во Франции. В 1929 г. «за большой вклад в современную историографию» был отмечен наградой французской Академии наук.
Автор ряда книг по истории России, среди которых наиболее известными являются «Петр Великий» (1897), «Дочь Петра Великого» (1900), «Иван Грозный» (1904), «Сын Екатерины Великой» (1910), «Екатерина Великая» (1934).
Несмотря на то, что многие оценки и выводы Валишевского сегодня могут показаться спорными, «Сын Екатерины Великой», безусловно, заинтересует всех любителей отечественной истории, в первую очередь благодаря огромному количеству малоизвестного фактического материала, собранного и изложенного в книге.
Сын Екатерины Великой. (Павел I) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Павел был одновременно и польщен этим предложением, и приведен в замешательство. Эрцгерцог Иосиф был уже в то время женихом злополучной Александры Павловны, недолго утешавшейся в своих неудачах этой свадьбой и предназначенной для других более жестоких испытаний; предполагаемая комбинация, по-видимому, предоставляла России в коалиции главную роль, чего все сильнее и сильнее добивалось честолюбие царя. Воинственное настроение монарха, кроме того, снова пробудилось благодаря успехам переговоров, которые он с начала года вел в Константинополе. Его посол только что подписал там с Турцией союзный договор, на который вскоре последовало согласие Англии. Он обеспечивал совместное действие обоих государств против Франции со значительными сухопутными и морскими военными силами. Но Суворов был в опале и в ссылке, и Павел продолжал относиться скептически к военным способностям человека, ничего не понимавшего в прусском уставе.
Его самолюбие взяло верх. Собственноручным письмом царь приглашал старого воина, столько от него перенесшего, принять предложенное ему командование; но когда Кобенцель заговорил о победах, которые союзники не замедлят одержать при таком начальнике, Павел покачал головой:
– В этом я умываю руки!
В то же время, в письме к генералу Герману, он поручал последнему иметь своего рода опеку над фельдмаршалом, «наблюдая за предприятиями, в которые может пуститься этот старый воин в ущерб вверенным ему войскам и делу, умеряя его пыл и вообще служа ему ментором».
Суворов согласился; но нельзя было себе представить, чтобы он помирился с каким бы то ни было опекуном, даже если бы служба последнего прошла иначе, чем у генерала без боевого прошлого, на которого была возложена эта миссия. Герману не привелось испробовать свои силы. Он получил вскоре другое назначение, а эрцгерцог Иосиф, женившись в марте на дочери Павла, тоже отказался пожинать лавры в Италии. Итак, Суворову не пришлось ни с кем делить начальствование, для которого его считали таким неподходящим, и обязанности «ментора» он должен был взять на себя. В то же время Павел, со свойственной ему непоследовательностью, доверил ему своего юного сына, Константина, чтобы он научился военному искусству у человека, которого так мало уважал его отец!
Так был подготовлен бессмертный поход, стяжавший блистательную славу русскому оружию; однако, Россия не получила от него ни малейшей выгоды, и в тот момент, когда эта война была решена, начавшие ее были всего менее согласны между собой относительно преследуемой ею цели, и даже относительно того, как начать и как ее вести.
Они продолжали договариваться не только в Раштадте, но и в Берлине, где отъезд Репнина не положил конца переговорам, очевидно, таким бесполезным, и в которых князь так безуспешно принимал участие. Панин, на легковерие и слепую пруссоманию которого часто указывал Тугут, поддерживал еще не достаточно энергично, по его мнению, усилия английских и австрийских послов. А практически он становился хозяином русской политики. Действительно, в Петербурге министерский кризис, с уходом Безбородко, оставил департамент Иностранных Дел в полном беспорядке. Это совпадало, кроме того, с отсутствием, до некоторой степени, прусской дипломатии на берегах Невы. Тауентцин был отозван летом 1797 года и заменен генералом фон Грёбеном, который, будучи хорошим военным, был приятен Павлу на плац-параде, но не приносил никакой другой пользы. Он предоставил даже всю переписку секретарю посольства, Вегелину.
Впрочем, попытки к соглашению по отношению к Франции, или всякой другой державы, всегда приводили к вопросу о вознаграждениях. В этой области, стараясь одновременно, хотя и вовсе не сговорившись, получить от Пруссии и Австрии заявление об одинаковом бескорыстии, Панин и Сиэйс разделили одну и ту же неудачу. Последний писал Талейрану: «J’avais réussi a doubler le pas, comme vous dites, mais il se trouve, que j’ai couru dans un cercle». [4]
В конце 1798 года прибытие Томаса Гренвиля, напугав прусского министра, усилило только его осторожность. По мнению Панина, Гаугвица и его коллег удерживал только страх, так как они не желали ничего лучшего, как заключить союз с Австрией и Англией против Франции, но боялись, что их предупредит нападение республиканских войск. Его пруссофильство несомненно обманывало его. Чтобы уничтожить эти опасения и положить конец нерешительности, которую они вызывали, он получил в первых числах 1799 года распоряжение предпринять решительный шаг: сообщив Берлинскому двору об англо-русском договоре, он должен был в категорической форме спросить, желает ли Пруссия к нему примкнуть, причем, в случае согласия, русский корпус в 45000 человек, под начальством князя Голицына, присоединится к прусским войскам, и будет оказана энергичная поддержка царя в требовании приличного вознаграждения для Бранденбургского и Оранского домов. В случае отказа, он должен немедленно уехать и отправиться в Карлсбад, где его присутствие могло оказаться полезным, чтобы предупредить конфликт чисто интимного характера: супруга великого князя Константина находилась в этом курорте и, будучи в очень дурных отношениях с мужем, обнаруживала намерение не возвращаться больше в Петербург.
Результат оказался таким, какого и можно было ожидать. Король дважды уклонился от аудиенции, а его министры кричали, что их хотят скомпрометировать. Но Панин не уехал. Он отказался играть назначенную ему роль в маскараде, устроенном молодой королевой, и удовольствовался этим выражением обиды, тотчас же прельстив себя надеждой извлечь пользу из натянутости, проявившейся в отношениях Гаугвица и Сиэйса. На самом деле министр Фридриха-Вильгельма думал вовсе не о том, чтобы ссориться с представителем Директории. Правда, требование, присланное из Петербурга, склоняло его к сближению с Англией, но только в виде союза «для защиты системы безопасности на севере Европы». И это, по его понятиям, означало поссориться не с Францией, а с Россией, откуда, как он воображал, Пруссии грозит нападение. Гаугвиц заявил это без обиняков Томасу Гренвилю, и впоследствии сам Панин хвастался, будто помешал в этот момент возгореться войне между обоими государствами.
Но чрезвычайный посол Сент-Джемского двора тоже ничего не добился из того, что ему было поручено. Так как он предлагал субсидии, то Гаугвиц сначала ими соблазнился. Когда король высказался за решительный отказ, министр настаивал на том, чтобы ему дали хоть переговорить с человеком, у которого руки полны таких веских аргументов. Однако, когда 7 марта 1799 г. англичанин потребовал определенного ответа, он получил его в такой форме, которая его вовсе не удовлетворила: «Пруссия не может пока отказаться от нейтралитета, оставляя за собой право примкнуть к России и Англии, если французы позволят себе новые захваты».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: