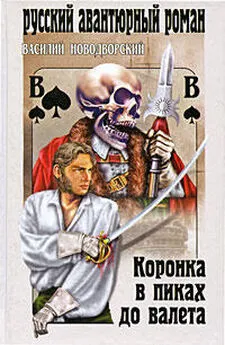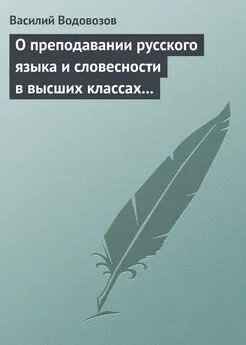Василий Сиповский - История русской словесности. Часть 3. Выпуск 1
- Название:История русской словесности. Часть 3. Выпуск 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Сиповский - История русской словесности. Часть 3. Выпуск 1 краткое содержание
Новая русская литература (Пушкин. Гоголь, Белинский). Издание третье. 1910.
Орфография сохранена.
История русской словесности. Часть 3. Выпуск 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
8
Ср. стихи "Посланіе къ Галичу", "Посланіе къ Ив. Ив. Пущину", "Мое завѣщаніе", «Городокъ». "Къ Батюшкову', "Гробъ Анакреона", "Посланіе къ Юдину", "Моему Аристарху".
9
Ср. стихи: «Леда», «Блаженство», "Гробъ Анакреона", "Фавнъ и Пастушка", Амуръ "и Гименей", "Фіалъ Анакреона", "Торжество Вакха".
10
Ср. стихи: «Кольна», «Эвлега», "Осгаръ".
11
"Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ", "Наполеонъ на Эльбѣ", "На возвращеніе Государя Императора изъ Парижа въ 1814 году".
12
"Посланіе къ кн. Горчакову", «Разлука», "Уныніе", "Элегія", "Я думалъ". Кромѣ того, объ этомъ чувствѣ говоритъ онъ въ стихотвореніяхъ: "Наѣздники", "Желаніе", "Осеннее утро", «Разлука», "Элегія", "Наслажденіе", «Окно» и др.
13
Фантастика поэмы не та, съ которой явился романтизмъ. Романтизмъ относится къ своимъ чудесамъ съ "вѣрой" (ср. сочиненія Жуковскаго), — между тѣмъ, у Пушкина отношеніе къ фантастикѣ то, что мы встрѣчаемъ въ волшебныхъ сказкахъ ХѴIII-го вѣка — скептическое, ироническое.
14
Такими словами Пушкинъ въ одномъ письмѣ определилъ сущность байронизма.
15
Элегія: "Я пережилъ свои желанія", написанная черезъ два дня послѣ окончанія "Кавказскаго плѣнника", прекрасно рисуетъ это настроеніе.
16
"Кинжалъ", "Отрывокъ".
17
"Нереида", "Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда', "Бахчисарайскому Фонтану", "Желаніе", "Въ Юрвуфѣ бѣдный мусульманъ", "Таврида".
18
"Мой другъ, забыты мной", "Элегія" ("Простишь-ли мнѣ", "Ненастный день потухъ", "Ночь").
19
"Наполеонъ", "Къ морю".
20
1-ая глава начата 28 мая 1822 г.; 2-ая оковлена 8 дек. 1823 г.; 3-ья — 2 октября 1824 г.; 4-ая — въ январѣ 1825 г.; 5-ая въ 1825-6 г.; 6-ая въ 1826 г.; 7-ая въ 1827-8 г.; 8-ая глава — въ 1830-31 г.
21
Этотъ интересъ Пушкина къ мѣстному пониманію «любви» выразился также въ стихахъ: "Черная Шаль", "Рѣжь меня, жги меня".
22
См. выше стр. 7, подр. прим. 1, слова Гете об "апостолахъ свободы".
23
Героиня романа Ричардсона "Кларисса Гарловъ" (См. выше мою Исторію Словесности ч. II, стр. 153).
24
Героиня романа Руссо "Новая Элоиза". См. выше "Исторію словесности". ч. II, стр. 154.
25
Героиня романа г-жи Сталь — "Дельфина".
26
Идеальный герой одного романа Ричардсона.
27
По крайней мѣрѣ, въ черновой рукописи есть строфа, въ которой говорится, что "скоро сталъ Евгеній, какъ Ленскій".
28
См. мою Исторію русской Словесности ч. II, 192-3.
29
Единственнымъ диссонансомъ звучатъ строфы, посвященныя въ послѣднихъ главахъ романа "высшему обществу".
30
См. мою Исторію русской словесности, ч. II, 153-4.
31
Подробнѣе см. въ моей работѣ: "Онѣгинъ, Ленскій и Татьяна" (въ соч. "Пушкинъ, его жизнь и творчество". Спб. 1907).
32
Детальное сравненіе Татьяны съ Дельфиной см. въ той-же статьѣ.
33
Вопросъ объ отношеніи личности къ обществу слабѣе поставленъ въ "Кавкавскомъ Плѣнникѣ" и "Цыганахъ".
34
См. любопытную статью извѣстнаго русскаго историка акад. Ключевскаго: "Евгеній Онѣгинъ и его предки" ("Русск. Мысль, 1887 № 2), въ которой разобранъ герой, какъ историческій типъ.
35
Во время пребыванія Пушкина въ Михайловскомъ, онъ, время отъ времени, получалъ письма съ юга, запечатанныя печатью съ тѣми же знаками, что были вырѣзаны на его перстнѣ (см. стих. "Талисманъ"). Эти письма Пушкинъ сжигалъ сейчасъ же послѣ прочтенія.
36
"Какъ за церковью, за нѣмецкою", "Во лѣсахъ дремучіихь", "Въ городѣ, то было, въ Астрахани", "Какъ на утренней зарѣ, вдоль по Камѣ, по рѣкѣ", "Во славномъ городѣ во Кіевѣ".
37
Къ этимъ первымъ «опытамъ» создать русскую пѣсню относятся слѣдующія: "Только что на проталинкахъ весеннихъ", "Колокольчики звенятъ", "Черный воронъ выбиралъ бѣлую лебедушку", баллада "Женихъ".
38
См. ч. II моей "Исторіи русской словесности", стр. 203.
39
"Мненіе митр. Платона о Димитріи Самозванцѣ,- говоритъ Пушкинъ, — будто бы он былъ воспитанъ y іезуитовъ, удивительно дѣтское и романтическое. Всякій былъ годенъ, чтобъ разыграть ту роль". Говоря такъ, Пушкинъ хотѣлъ сказать, что ни личность мнимаго Димитрія, a обстоятельства того времени, сумма условій, воспитавшихъ и создавшихъ самозванца, обусловили ему успѣхъ.
40
Очевидно «обыкновеннымъ» считалъ Пушкинъ то, что было принято y псевдоклассиковъ.
41
См. мою Исторію русской словесности, ч. II, 203 и 204.
42
Подробный разсказъ Пимена о смерти Ѳеодора взятъ изъ "Житія царя Ѳеодора Ивановича"; подробности пораженія Самозванца (издыхающій конь), пропущенныя въ "Исторіи" Карамзина, взяты изъ исторіи Щербатова; въ вопросѣ о закрѣпощеніи крестьянъ Пушкинъ отошелъ отъ Карамзина и примкнулъ къ мнѣнію Татищева; при обрисовкѣ Марины, Пушкинъ воспользовался "Краткою повѣстью о бывшихъ въ Россіи самозванцахъ". Карамзинъ радужными красками изобразилъ избраніе народомъ Годунова на царство: ликованіе толпы, ликованіе бояръ, — такова картина этого избранія; тѣмъ непонятнѣе въ его изложеніи дѣлается крутая перемѣва въ отношеніи народа къ Борису во вторую половину его царствованія. Перемѣна въ поведеніи царя Карамзинымъ тоже не выяснена. Мы видѣли выше, что всѣ эти недостатки Карамзина Пушкинъ поправилъ, по своему разработавъ психологію бояръ, народа и Бориса (народъ при избраніи Бориса — бояре). Акад. Ждановъ указываетъ, кромѣ лѣтопиосей, на слѣдующія сочиненія, облегчившія Пушкину трудъ самостоятельно оцѣнивать изображаемую имъ эпоху: "Новый Лѣтописецъ", "Сказаніе Авраама Палицына", "Грамота объ избраніи Бориса Годунова" и нѣк. др.
43
Совершенно фальшиво представленъ Карамзинымъ «народъ»: "народы всегда благодарны: оставляя небу судить тайну Борисова сердца, Россіяне искренно славили царя, когда онъ, подъ личиною добродѣтели, казался имъ отцомъ народа, но, признавъ въ немъ тирана, естественно возненавидѣли его и за настоящее, и за минувшее; въ чемъ, можеть быть, хотѣли сомнѣваться, въ томъ снова удостовѣрились, и кровь Дмитріева явнѣе означилась для нихъ".
44
Такъ, въ трагедіи Шиллера: "Димитрій Самозванецъ" разговоръ Самозванца съ Одовальскимъ при переходѣ русской границы напоминаетъ разговоръ пушкинскаго Самозванца съ Курбскимъ. Мовологъ Годунова: "Достигъ я высшей власти" довольно близко по настроенію и содержанію, подходитъ къ "думѣ" Рылѣева: "Бориісъ Годуновъ".
45
Въ этомъ отношеніи, болѣе въ романтическомъ духѣ развитъ характеръ Самозванца.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: